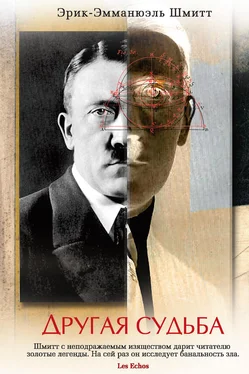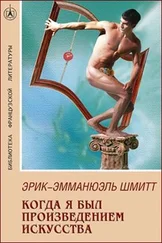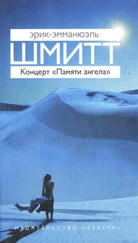Гитлер начинает повергать толпу в трепет. Она аплодирует. Она хочет сопричастности. Он распаляет ее, дает волю, сдерживает, губами зажимает ей рот, не давая кричать. Он вставляет ей и вынимает, освобождает рот – она ликует.
И снова натиск. Она удивлена. Как? Уже?
Он овладевает ею. Он неутомим. Она покоряется. Кричит. Он продолжает.
Она стонет. Он меняет ритм. Она урчит и плачет одновременно. Быстрее, еще быстрее. Сердце выпрыгивает из груди. Она кончает.
Он не дает ей роздыху. Нет. Она больше не может. Он ее убедил. Она поняла. Нет никого лучше. Да. А он усиливает напор, и, как ни странно, она идет у него на поводу. Теперь ее воля побеждена, она принадлежит ему, он ее господин, он делает с ней что хочет. Он – ее настоящее, ее будущее, потому что стал ее лучшим воспоминанием.
Она кончает снова, и снова, и снова.
Теперь она уже не различает пиков оргазма, она вся – самозабвение. Она ревет не смолкая.
И пока он трудится над ней, она обещает ему все, что он хочет. Да. С тобой. Без тебя никуда. Никогда.
Он рывком выходит из нее и исчезает.
И она сразу ощущает боль.
Лекарством становится музыка. Чтобы прийти в себя, толпа поет. Она возвращается в нормальный мир.
Да, он обещал. Он вернется.
Гитлер укрылся в машине. Потом он прыгнет в самолет, чтобы лететь в другой город, где его уже ждут.
Толпа кончила под ним, но сам он не кончил.
Он презирает ее за то, что кончила так быстро, не дав кончить ему.
И в своем презрении он чувствует себя выше.
И в презрении этом он держит над ней власть.
И в своем разочаровании он найдет силы начать все заново час спустя.
* * *
Белесое утро над авеню дю Буа.
Из своего окна Адольф следил за мрачным и безмолвным мельтешением судебных исполнителей во дворе; они уносили все следы его счастья с Одиннадцать-Тридцать.
«Лишь бы продержаться до…»
В 1929 году экономический кризис подорвал рынок искусства, покупателей не стало, большинство разорилось, уцелевшие искали более надежного помещения капитала, чем современная живопись, а редкие незыблемые миллиардеры, которые по-прежнему могли тратить деньги без страха, выжидали, когда инфляция еще понизит цены.
«Лишь бы продержаться…»
Адольф не хотел, чтобы Одиннадцать знала об их разорении. Она теперь не вставала с постели, и ему удавалось поддерживать иллюзию прежнего образа жизни; она не знала, что за ее дверью в доме больше не было никакой мебели, а в услужении у них осталась только одна горничная, слишком привязанная к Одиннадцать-Тридцать, чтобы уйти, хотя ей не платили уже три месяца. Даже незаконченные картины из мастерской унесли сегодня утром.
– Незаконченные картины? Что вы будете с ними делать? – ахнул Адольф, когда судебный исполнитель их упаковывал.
– Продавать по цене холста; кто-нибудь другой сможет на них писать, – ответил мэтр Плиссю своим протяжным выговором, будто обсасывал каждое слово, как конфету.
У Адольфа не было сил даже возмутиться. Протестовать? К чему? Мир несправедлив, я это знаю. И потом, есть кое-что похуже. Ничему в нем не осталось места, кроме печали. Он думал только об этом маленьком теле, прежде полном жизни, которое медленно угасало в соседней комнате.
– Могу я с вами поговорить?
Адольф вздрогнул.
В углу пустой, холодной комнаты стоял доктор Тубон.
Доктор Тубон, мэтр Плиссю, все эти официальные и взаимозаменяемые лица, большие жирные тюлени в черном, с усами, свидетельствующими об их серьезности, с мягкими маслянистыми голосами, тембр которых так не идет вестникам катастроф. Скромность. Учтивость. Ужас. Все эти недели их мельтешения в доме, безличного и отлаженного, как на похоронах, отнимали у него кусок за куском все, что было ему всего дороже, его жизнь с Одиннадцать, надежду на жизнь с Одиннадцать…
– Я пришел сказать, что вашей жене осталось жить считаные часы.
– Нет!
– Мсье Г., я был восхищен вашим мужеством и глубиной вашей любви в этом испытании. Из уважения к вам я ничего от вас не скрываю. Она уже почти не может дышать; ей не дотянуть до вечера.
Адольф уткнулся лбом в стекло. Ну вот, он услышал фразу, которой страшился все эти месяцы, фразу, против которой боролся, против которой мобилизовал всю свою энергию и всю любовь. Все рухнуло. Ничего не помогло. Кончено. В свой день, в свой час смерть все равно придет.
– Вы должны понять, мсье Г., что для вашей жены это будет поистине избавлением.
Бедная маленькая Одиннадцать, такая мужественная, такая жизнерадостная! Она слабела, не жалуясь, проводя свои последние часы перед картиной, единственной картиной, которую не унесли судебные исполнители, – ее «Портретом великанши».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу