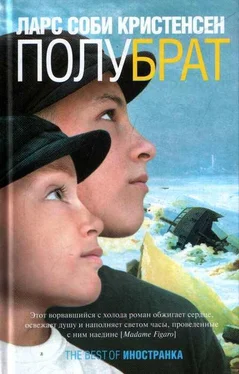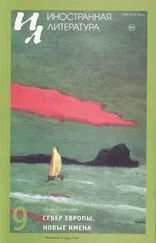Семь часов. Я принял душ, выпил и вобрался в костюм. Вивиан надела платье, которого я раньше на ней не видел, синее в крупную чёрную полоску. Оно ей шло. Мы посмотрелись в зеркало — вполне ничего себе, идём в само «Театральное кафе». Тут телефон прозвонил в третий раз. Я поднял трубку. Мама Педера. — Поздравляю, — сказала она. — Ты выиграл приз. — Да, такое дело, — ответил я. — Спасибо за поздравления! — Я так тобой горжусь, Барнум! — Но с голосом было что-то странное. Он был медленный, и радости не слышалось. — Я должна сообщить тебе кое-что, — сказала она. Я сразу протрезвел и помертвел. Сел. — Да? — Папа Педера умер сегодня ночью. — Как умер? — Вивиан обернулась, уронила на пол клипсу. Мама Педера долго молчала. Я слышал только её дыхание. — Он покончил с собой. — О нет, — прошептал я. Вивиан шагнула ко мне, она была белая, еле стояла. — Мне бы очень хотелось, чтобы вы пришли на похороны, — сказала мама Педера. И положила трубку. Я поднял глаза. — Что? — шепнула Вивиан. — Что такое? — Я притянул её к себе и всё рассказал. И почувствовал, как расслабилась сведённая спина, короткий вздох облегчения, отпустило и меня, умер не Педер, и это облегчение тут же превращается в угрызения, стыд и скорбь. Расфуфыренные во всё самое-самое, мы остаёмся дома. И я явственно вижу столик в «Театральном кафе» с табличкой «Барнум Нильсен, 20. 00», единственный столик за который никто не садится, и это тоже своего рода эхо, отзвук диска, просвистевшего сквозь пелену слепящего солнца. Я обнимаю Вивиан. — Зато теперь Педер приедет, — говорю я и плачу.
(последняя картина)
Но Педер не прилетел. Мы с Вивиан поехали встречать его в «Форнебю». Было раннее утро дня похорон его папы. Мы стояли у огромного окна, чтоб посмотреть, как самолёт садится, медленно-премедленно, кажется, шасси никогда уже не чиркнут по земле. Рулёжки блестели после прошедшего ночью дождя. Мы бегом помчались на первый этаж, в зал прилёта. Нас таких собралось немало. Мы едва пробились вперёд. Я забрался на стул. Вдруг я его не узнаю. Чтоб тогда он сам смог признать меня. Но Педер не прилетел лондонским рейсом. Он вообще не прилетел. В зале остались лишь мы с Вивиан и чернокожая уборщица, которая возила широкой шваброй по полу, усеянному цветами, сигаретами, флагами плюс детский башмачок.
Мы взяли такси и поехали к маме сами. Она сидела в кресле в полной готовности, щепка в чёрном. — Самолёт отменили, — сказал я. Вивиан закивала и отвернулась. Мама взялась пожухшими руками за колёса коляски. Она решила добираться до крематория своим ходом. Времени ещё было достаточно. Наверно, таким окольным манёвром она хотела приготовиться, собраться с духом, и то правда, кому охота спешить туда, куда век бы не ходил? Мы неторопливо одолели Фрогнерпарк, свернули за «Монолитом» и постепенно очутились на кладбище Вестре Гравлюнд, где покоятся и Пра с Арнольдом Нильсеном. Кто-то положил им свежих цветов. Я заметил могилу Т. Вокруг вросшего в землю камня колосилась жёлтая трава. Я аж запнулся на ходу, задохнулся. Эка всех забывают. Папа Педера заперся в гараже, сел в машину и завёл мотор. Утром его нашли мёртвым. Почтальон нашёл. Папа всё ещё сжимал руль, и им пришлось ломать ему пальцы.
В крематории зазвонил колокол. Мы одолели последний отрезок, подняли маму по ступеням и вкатили её в темноту, поближе к белому гробу. Все уже собрались. Не хватало лишь Педера. Посерёдке лежали венки от семьи, филателистов и друзей. Мы с Вивиан встали рядом с моей мамой и Болеттой. Заиграл орган. А я подумал, что если б мы с Вивиан в тот раз, возвращаясь от её родителей, зашли к ним, а не просто поглядели от угла на свет в окнах первого этажа, может, всё сложилось бы иначе. И если б я не стал приставать к нему с неисправным стеклом в машине, не говорил бы, что его нужно починить, возможно, он был бы жив сейчас. Неужели хватило бы такой мелочи? Какая малость потребна, чтобы спасти человека? Было совершенно тихо, ни покашливания, ни слёз, словно эта кончина запугала нас до беззвучности. Мы ждали. Мама Педера положила на гроб розу. Потом развернула коляску и улыбнулась всем пришедшим. Она была прозрачна и красива. Голос её звучал чисто и медленно. — Оскар не хотел отпевания, — сказала она. — Он не верил в жизнь после этой. Мы часто говорили о смерти. Но никогда о том, что всё свершится так. — Она закрыла глаза, стало ещё тише. Тяжело проходили секунды. И она продолжила свою речь о покойном муже так: — Я очень любила Оскара. Он был со мной так терпелив… Я и теперь люблю его не меньше и буду любить всегда. Любить его смех, его задумчивость, радости, которые мы с ним разделили. Это моё единственное утешение сегодня. Горе не имеет обратной силы. Сегодняшняя печаль не может вытравить краски того, что было вчера. — Она снова прервала свою речь. А потом тихо, наклонив голову, прошептала, может, только я и услышал эти слова, этот всхлип, этот стон, но они выжглись во мне как клеймо: — Бог мой, Бог мой, я совсем его не знала! — Потом она выпрямилась: — Педер должен был бы быть рядом со мной в эти минуты. Но обстоятельства помешали ему. Я благодарю вас всех, что пришли сегодня сюда. — И она снова отвернулась к гробу.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу