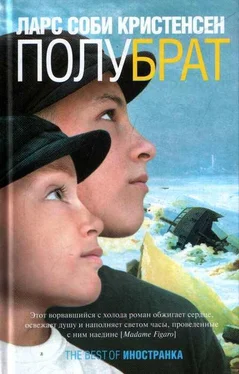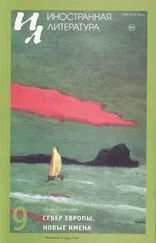Тем вечером первым ушёл спать я. Лежал в кровати, ждал Педера и думал: вот я впервые в жизни поднял руку на человека, и, конечно, им оказался мой лучший и единственный друг Педер Миил. Я натянул одеяло на голову. Теперь все возмущены мной. Небось завтра же и наладят восвояси. Поделом. Сам виноват. Меня точил стыд. Педеру пришлось ещё и соврать, выгораживая меня. Никогда я не терзался сильнее, чем теперь этим тугим, тяжёлым, тоскливым позором из-за того, что разочаровал всех, и здесь, на острове, и маму с Болеттой, да весь белый свет, хотя именно этого я избегал всеми силами — чтобы кто-нибудь разуверился во мне. Я был переполнен стыдом и срамом. Педер, понятно, теперь меня возненавидит, пусть он и пожал мне руку. Наконец он пришёл. Сел на кровать спиной ко мне. Сгорбился. Я притворился спящим. — Прости, — сказал Педер. Я затих, как мышка. — Это ты меня прости, — пискнул я. — Нет, я виноват, — сказал Педер. — Я. Драться я полез. — А я первым начал. Как я мог сказать такое о твоём брате?! — А я? Как я посмел бить тебя? Очень больно? — Неа. Чуть-чуть. А тебе? — Ничего страшного, — ответил я. И покой вернулся ко мне, я чувствовал себя даже спокойнее прежнего. Педер сидел в прежней позе. Я погладил сгорбленную спину. Педер был в пижаме. — Тише, — шепнул он. Я замер. Мы слышали, как укладываются родители: остановился скрип колёс, папа поднимает маму, переносит в кровать, смех, шёпот, затем тишина. Луна зашла за тучу. — Угадай, что у меня есть? — Не знаю, — протянул я. Педер выпрямился, обернулся и протянул красную бутылку. — Кампари, — прошептал Педер. — And how do you like your brendy, sir? — In a glass, — откликнулся я. Педер принёс из ванной наши стаканчики и налил их доверху. Сел рядом со мной. — Твоё здоровье, — сказал он. — Скол. — Скол, — поддержал я. Это было всё равно что ещё раз пожать друг другу руки. Даже больше. Мы выпивали вдвоём. Лицо Педера собралось в жёсткий, тугой ком, словно его окунули с головой в холодную воду, а потом натёрли морду апельсиновой шкуркой с хозяйственным мылом. — Ёшкин-кошкин, — выдохнул он. Я расхохотался и подставил стаканчик для добавки. Пить мне понравилось. Это дело для меня. Педер очухался после второго стакана. Я пришёл в себя после третьего. И понял, чего ради Болетта пристрастилась ходить на Северный полюс за пивом. Дело в забвении, отходишь в сторону на шаг — и ты в домике, никто тебя не достанет. Испарился стыд. Ушли разочарования. Исчезло всё, от чего я хотел избавиться. Я не только воспрянул духом, но и тело стало невесомым, начисто забылось, какой я крови и плоти, росту во мне набралось метр семьдесят восемь, да бери выше — метр девяносто. Мне открылась суть опьянения. Это отрешённость. И ты можешь заполнить её чем пожелаешь. Наверно, вот что сдвинулось тем летом: я напился «Кампари», на пару с Педером, из стаканчиков для чистки зубов, сидя ночью в неширокой двуспальной кровати. Фьорд тёрся о скалы. Пройдёт несколько миллионов лет, от него останутся ил да пыль, ветер развеет их, если до того не стрясётся чего похлеще. Птицы молчали. И так мне возмечталось, что вся наша жизнь, до конца, будет идти как этот миг, именно этот: мы вдвоём, мягкая бесформенная отрешённость и умолкшие птицы. — А знаешь, в чём я мастак? — спросил Педер. Я выпил. Задумался. Но мысли мои были далеки. Они жили другими заботами и текли в ином направлении. — В танцах, — ответил я. Педер подавился «Кампари», и мне пришлось чуть не четверть часа стучать его по спине. — Ещё попытка, — просипел он. — В счёте. — Педер сел и кивнул. — Точно. В счёте. А как ты догадался? — Угадай с двадцати раз! — Педер улыбнулся и прикрыл глаза: — Я считаю всё. Считаю, пока цифры не кончаются. Однажды я пересчитал все носы на аллее Бюгдёй. — Носы? Честно? — Представляешь? Фу, мерзость. Nevermore! — Он опять открыл глаза. Я засмеялся, а Педер принялся пересчитывать мне зубы, как мерину, и насчитал тридцать один. — Одного не хватает, — сообщил он. — Выпили. Скол. — Один мышка не вернула, — ответил я. — Скол, Педер. — Мы выпили. И показалось, будто в комнате звенит оса, но потом звук пропал, видно, оса вылетела в приоткрытое окно, если это только было не шумом в моей разбухавшей голове. — А зачем ты всё считаешь? — Педер заполз в кровать. Следом я. И он прошептал с упоением: — Счёт так успокаивает! Всё становится на место. Я не знаю ничего прекраснее цифр! Которые возрастают и возрастают. — Ты такой же полоумный, как и я. — В ответ Педер опрокинул стакан, сел на меня верхом и прижал мои руки. — Считатель и сочинитель! Барнум, мы с тобой — сила! — Дышать я почти не мог и выдавил: — Да. — Нет, ты представь, чего мы сможем добиться?! — Педер припал ещё ближе и держал меня по-прежнему мёртво. — Чего, Педер? — Ты только представь! — взвизгнул он. — Ты меня задушишь, — громко просипел я. Это Педера не смутило. — Ты сочиняешь. Я подсчитываю, во что это обойдётся. Одно нехорошо. — Что? — Педер обнюхал мой рот. — Ты пьяненький, а, Барнум? — Может быть, — прошептал я. Педер раскачивался всем телом. Кровать ходила ходуном. Матрас скрипел. — Полярность твоих фантазий. Её надо переделать. — Чего-чего? — Поменять минус на плюс. Сейчас твои истории со знаком «минус». Их нужно перевести в плюс. Иначе дело не пойдёт! — Педер рухнул на кровать рядом со мной и довольно долго не говорил ничего. Робкий свет пробился из-за занавесок, завяз в моих глазах и растопырился в голове, как мельтешащая карусель. — Считатель и сочинитель, — повторил Педер с расстановкой. — Барнум, это мы с тобой. — Это были его последние слова в ту ночь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу