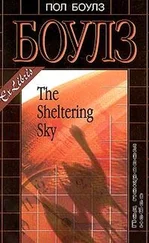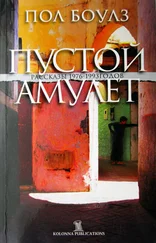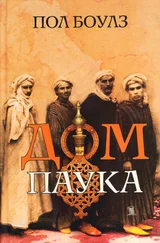Свет солнца просачивался сквозь его закрытые веки, творя слепой мир пылающего оранжевого тепла; с ним явился соответствующий луч понимания, что, как прожектор, вдруг направленный с неожиданной стороны, омыл знакомую панораму преображающим сиянием окончательности. Годы, что он провел в банке, стоя в клетке кассира, были, в конце концов, реальны; он бы не мог их назвать случайностью или заглушкой. Они миновали, с ними покончено, и теперь он их видел как неизменяемую часть узора. Теперь до всех дальних нерешительностей, откладываний и нерешенных вопросов не дотянуться. Слишком поздно, только вот до сего момента он этого не знал. Жизнь его не была пробной, как он смутно ее ощущал, — она была лишь одной возможной, единственной представимой.
И так все оказалось уже завершенным, ее форма — решенной и бесповоротной. Даера охватило глубокое удовлетворение. Череда мыслей испарилась, оставив его лишь с сиянием благополучия, сопровождавшего их уход. Он поискал взглядом жука среди камешков; тот исчез на дорожке. Но он теперь слышал голоса — поблизости. Мимо прошла группа берберов в тюрбанах и, глядя на него без удивления, удалилась, по-прежнему беседуя. Их появление послужило тому, что он вернулся из того внутреннего места, где был. Даер разъял трубку, убрал ее. Чувствуя опьянение и легкость в голове, поднялся и двинулся за ними на приличном расстоянии. Тропа, которую они выбрали немного погодя, вела через холм и вниз — вниз, по глухомани кактусов, сквозь тенистые оливковые рощи (трухлявые стволы часто были просто широкими узловатыми остовами), по-над каскадами гладких скал, через луга, усеянные олеандровыми кустами, — и наконец стала узкой дорожкой, по обеим сторонам ограниченной высоким падубом. Здесь она изгибалась так часто, что несколько раз Даер терял людей из виду, а в конце концов они исчезли совсем. Почти в тот же миг, когда он понял, что их нет, он неожиданно вышел на бельведер, утыканный валунами, непосредственно над крышами, террасами и минаретами городка.
Иногда по утрам в пятницу Хадж Мохаммед Бейдауи отправлял одного из своих старших сыновей за самым младшим, Тами, привести его оттуда, где тот играл в саду, и малыша приносили на руках, а он выкручивался, чтобы брат по пути не покрывал его щеки шумными поцелуями. После чего его помещали отцу на колено, лицо его моментально зарывалось в жесткую белую бороду, и он задерживал дыхание, пока отцово лицо вновь не поднималось и старик не начинал щипать его младенческие щеки и приглаживать ему волосы. Он ясно помнил отцову кожу цвета слоновой кости, и до чего прекрасным и величественным казалось ему это гладкое древнее лицо в оправе белой шелковой джеллабы . Думая об этом сейчас, он, вероятно, имел в виду воспоминание об одном конкретном утре, о дне сияющем, каким может быть только день весны в детстве, когда отец, опрыскав его водой с апельсиновым цветом, пока он весь почти совсем не вымок и его чуть не стошнило от сладкого запаха, взял его за руку и повел по улицам и паркам солнечного света и цветов в мечеть на Маршане, по улицам, не таясь, где все, кого они встречали, и все мужчины, целовавшие край рукава Хаджа Мохаммеда, и те, кто не целовал, могли видеть, что Тами — его сын. А Абдельфту, и Абдельмалека, и Хассана, и Абдаллу — всех оставили дома! Это было самое важное. Сознательная кампания стремления к тому, чтобы заполучить больше своей доли отцова расположения, уходила корнями в то утро; он вел ее непрестанно с тех пор и до самой смерти старика. Затем, конечно, все прекратилось. Остальные были старше него, и к тому времени он им не нравился, а он возвращал им эту антипатию. Он начал подкупать слуг, чтобы те выпускали его из дому, и у нескольких были неприятности с Абдельфтой, в то время хозяином поместья, который был вспыльчив и легко впадал в ярость всякий раз, узнав, что Тами сбежал на улицу. Но именно улица с ее запретными наслаждениями соблазняла мальчика больше чего угодно, как только мир перестал быть тем местом, где высочайшая благодать — забраться на колени к отцу и слушать поток легенд и поговорок, песен и стихов, и так не хотелось, чтобы он когда-либо заканчивался. Одну песню до сих пор помнил целиком. Там говорилось: «Ya ouled al harrata, Al mallem Bouzekri…» [112] «О, сыновья крестьян, о хозяин Бузекри» (араб.) .
Отец рассказывал ему, что все мальчишки Феса бегали по улицам, распевая ее, когда нужен был дождь. И была одна пословица, которую он тесно связывал с воспоминанием об отцовом лице и ощущением того, что его, окруженного горами покрытых парчой подушек, держат на руках, а над ним огромные лампы и высокие, подобранные петлями занавеси, и, сколько бы отец ни уступал его мольбам повторить, в ней всегда звучала таинственная, волшебная истина, когда он ее слышал.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу