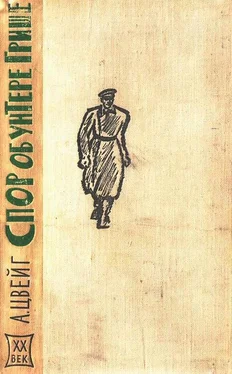Сумерки наступили рано. Поток за потоком струились, бушуя у маленького оконца, воды надвигавшейся весны, и от тонкой струи воздуха, проникавшей через единственную наружную стену барака, трепетал перед иконой, отбрасывавшей тень, огонек.
— Да, — задумчиво сказал Гриша, — война — дело не шуточное. Раз началась, она уже свое берет. Была и у нас стрельба — вспоминать тошно. Все солдаты — на один лад, да и офицеры тоже. Только что у немцев мозги разгорожены на квадратики, один возле другого… Если поймают меня… — слышно было, как он, глубоко вздохнув, задержал дыхание.
Бабка спокойно сказала:
— Подвинься! — и легла рядом с ним на широкие нары, как ложится жена возле мужа.
— Вот настанет лето… хорошо будет в лесу. Теплынь, Гриша, в тенечке… полно черники, работа легкая, кругом свои, товарищи.
Она замолчала, уставившись в потолок, напряженным ожиданием полнилось сердце.
— Невелика хитрость остаться здесь, не для этого ж я от немцев бежал.
Молодая женщина выпятила нижнюю челюсть:
— Что ж, беги дальше, сейчас же беги! Ну!
Побледнев от ужаса, — она чувствовала, что обрывается что-то, что она взлелеяла в своей душе, Гриша крепко обхватил ее шею. И в сгущающихся сумерках прозвучала его спокойная решимость:
— Ты думаешь, мне не любо было бы остаться здесь с тобою, Аня? Ведь ты вернула покой моей душе, до глубины ты меня проняла, все с тобой забыл — и страх и плен. Ты сама знаешь, что не пустое это. Я сам был бы последней собакой, ежели бы считал, что это пустяки. Но тянет меня, ох как тянет… Все во мне рвется домой! И вот… не могу я остаться с тобой, Анна.
Его голос звучал просительно и жалко, словно голос ребенка, несмотря на твердую решимость и непреклонное сознание долга.
— Я уйду не сейчас, если не прогонишь меня. Почему бы мне не пожить с тобой и ребятами еще с месяц? Почему не помочь, раз я вам нужен? А потом — уйду, за мной будут охотиться жандармы, придется прятаться средь бела дня… А если они вдруг поймают меня?
Внезапно эта возможность со всепобеждающей силой заполнила его настороженные мысли. Бабка, с потемневшим лицом, молчала. Она все еще пристально смотрела в пустой угол, туда, где сплетение причудливых теней как бы напоминало о разбитой надежде.
«Он не останется! А если уйдет, разве он возьмет меня с собой?» — размышляла она.
«…И придется, может быть, — думал он, — еще много лет после заключения мира работать на них… Возить землю на тачке, выдергивать колючую проволоку или пилить дрова, томиться в их каменных тюрьмах. Лучше уж тогда сразу: либо пулю в спину, либо прорваться через штыки жандармов».
Он выдыхал воздух с шумом, будто стонал. По тому глубокому состраданию, которое охватило ее в это мгновение, Бабка поняла всю безнадежную глубину своего чувства к этому взрослому ребенку, который так пришелся ей по душе еще тогда, когда она сидела у его костра, к этому Иванушке-дурачку, который среди дремучего леса пытался обойтись самострелом и ножичком. Жалостливый смех зазвучал в ее груди. Она вскинула руки на его шею, ласково укусила его за ухо. Ее дыхание отдавало теплым хлебом.
— Ладно, ступай себе, уж я тебе — помогу, олух-солдат!
Опершись на локти, Гриша сжимал ладонями ее голову и недоверчиво смотрел в ее лицо со светившимся горечью взглядом. Но она продолжала говорить:
— Зачем тебе всякому выкладывать, кто ты такой? Мало, что ли, нынче прет через позиции дезертиров, солдат, которым надоела война и которые хотят домой, как и ты, к жене и детям? Только и разницы, что их деревни тут, поблизости, у фронта, а твоя — далеко, в самой России… У меня в бараке спрятаны штаны и мундир одного моего земляка, Ильи Павловича Бьюшева, он жил тут с нами и тут же помер. Никак не удалось поставить его на ноги. Но его номерок — ведь вы все носите на шее номерки — лежит в ящике стола. Если тебе не повезет и схватят тебя, ты скажешь, что ты Илья Павлович Бьюшев из Антоколя, шестьдесят седьмого стрелкового полка, пятой роты, идешь, мол, домой, повидаться с матерью. Идешь с позиций, дезертир. И все будет ладно. На худой конец опять запрячут тебя в лагерь, станут наводить справки. А до тех пор я уж дам знать старухе, Наталье Бьюшевой, — она скажет все, как нам нужно. Каково, олух-солдат?
Улыбка на круглом лице Гриши становится все шире, страдальческие тени и морщины исчезают. От неописуемого удивления его раскосые глаза слегка прищуриваются и вновь широко открываются.
— О, не так хитер черт, как его Бабка! Да и чертова бабка выходит дура против моей зазнобы.
Читать дальше