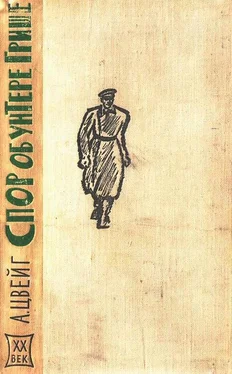Беспомощный, всеми покинутый, с бьющимся сердцем, готовым разорваться от щемящей тоски, Гриша устремляет взгляд мимо кустов бузины с собравшейся улететь медлительной вороной, вдаль, к лежащему внизу, скрытому городу, где жизнь течет обычным путем.
Фельдфебель Понт с выпяченной нижней челюстью вынимает носовой платок и жестом, не допускающим возражения, вполголоса приказывает одному из егерей завязать глаза осужденному. Целитель душ все еще бормочет свои молитвы.
Руки Гриши опять связаны. Это насилие жутко: отбиваться не можешь, только стонать. Гриша уже почти без сознания. Невероятная тяжесть, как жернов, наваливается и оглушает его от того, что совершают над ним, от того, что это совершают именно над ним, что время идет неудержимо, без протеста, без малейшей пощады. Он не хочет, чтобы ему связали руки, не хочет, чтобы его расстреляли, но он не в состоянии собрать немецкие слова, а русские не могут пробиться, потому что во рту, между зубами, застряло слово, крик: «Мама, мама!» Затем мир исчезает под мягким, хорошо пахнущим полотняным носовым платком. Ни минуты не оставляет страх, гнетущий ужас перед черным зверем, готовым к прыжку. Гриша стоит напряженный, обезумевший, прислушиваясь к тому, что так жутко наступает на него извне.
В тот момент, когда раздается предпоследняя команда, — он слышит стук наводимых ружей, — пастор кончает читать молитву. «Крест», — думает Гриша, и видит пред собою, пред своими закрытыми глазами этот ребристый, тяжелый крест. Когда фельдфебель Берглехнер трескучим голосом выкрикивает «пли», его душа в сознании неизбежности совершающегося, в чрезмерности смертельного страха вдруг освобождается, страшный гнев охватывает его, в то же время он начинает испражняться. Треск выстрелов бешеным ударом врывается в вереницу бурно сменяющихся картин, начиная с креста, висящего на кухне у матери. Он видит Алешу с клещами, лесной склад при лунном свете, когда он крадется через проволоку; слышит кислый запах дерева в вагоне, в котором начал побег, запах сена, когда покидал поезд, пред ним встают беспредельная белизна и ледяное молчание зимнего леса, жуткая — до дрожи — тишина покинутой артиллерийской позиции…
А вот подползает черный зверь, рысь, с дьявольской мордой и ушами с кисточкой, вот она уже стала на задние лапы, готовая его растерзать, но трусливо убегает от его задорного смеха, свободных движений и брошенного им снежного кома.
И Гриша опять слабо и растерянно улыбается, вспоминая зверя, — теперь, когда он вот-вот ринется на него из пяти отверстий ружейных стволов, повалит наземь, убьет. Но давно подавленный и затертый действительностью инстинкт жизни перед смертью вновь ярко вспыхивает в глубинах души, зажженный верой в то, что какие-то частицы его существа все же спасутся от уничтожения.
В те доли секунды — от мгновения, когда пять пуль с неистовой силой вонзились в грязную ткань рубахи, увлекая ее за собою в теплое чувствительное тело, до смертельного разрыва наполненных кровью жил, судорожно бьющегося сердца, обильной легочной ткани, его страдания были так безмерны, так страшны, настолько выше сил человеческих, он сам был так разбит, придавлен, изничтожен, истоптан, что жгучий ужас этого унижения должен был бы стереть улыбку освобождения с его лица.
Но между тем, как его тело, как бы на шарнирах, перегнулось и упало навзничь и на снегу обозначился круг ярко-красной крови, — медленное, упрямое время уже было не властно над ним: тело уже не слышало боли.
На снегу лежал Григорий Ильич Папроткин, Бьюшев, он улыбался. Его лицо, мускулы, выражали такую радость, какой он сам уже давно не испытывал. Только глаза под платком кричали, они жутко вылезли из орбит от внутреннего смертельного удушья, когда кровь из артерий и вен заполнила легкие, остроконечная пуля пробила человеку сердце, а между ребрами в спине открылись маленькие острые отверстия… Со стен карьера посыпались камни, поднялась снежная пыль…
— Такой вот стрельбищный вал — самое подходящее дело, — сказал фельдфебель Берглехнер. — Штатские ревут, но солдаты держатся хорошо, — прибавил он, обтирая усы, будто выпил что-то. На самом деле он выпил собственную кровь, даже не замечая, что надкусил верхнюю губу, когда в последние, безумно напряженные секунды, скомандовал «пли».
Доктор Любберш — его красивое грустное лицо почти спокойно, как философ, он чувствует себя выше действительности, он точно защищен от нее непромокаемым плащом, — подошел к тому, что было Гришей, на мгновение опустился на колени перед этой улыбающейся, откинутой в сторону головой, страшно неудобно лежавшей на щеке, развязал платок, закрыл глаза Грише и сказал:
Читать дальше