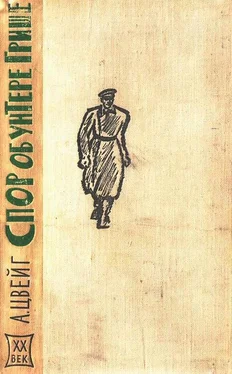Фельдфебель Понт дружелюбно прерывает приятелей. Ему нужно немедля взглянуть, достаточно ли представительный вид у его гнедого мерина Зейдлица, ибо побежденная сторона, штаб дивизии, должна быть достойно представлена на этом спектакле.
И они прощаются друг с другом, Бертин идет по левую сторону Познанского. Понт с удивлением замечает, что Познанский прихрамывает.
Глава пятая. Черный зверь
В заднем углу, за спиной Гриши, притаился черный зверь — это страх смерти, он притаился и слушает. Он ринется на него сзади. Гриша сидит за столом и ест. Он ест бифштекс с жареным картофелем. Ему дали также консервированный компот. И полбутылки красного вина. Фельдфебель Шпирауге прислал три сигары; одну из них Гриша подарил унтер-офицеру Шмилинскому, другую — ефрейтору Захту, если ему после болезни опять можно будет курить. Третью сигару Гриша оставил себе. Он обрежет ее, закурит, ни на минуту не забывая, что черный зверь должен выскочить из-за угла и сзади ринуться на него.
Надо гнать от себя этот страх! Черт возьми, на смерть идет солдат, русский унтер-офицер Григорий Ильич Папроткин, — один среди вражеской армии, среди устремленных на него со всех сторон взглядов; он, не станет давать им тут бесплатное представление.
Несмотря на вкусные яства, ощущение горечи между небом и языком не оставляет его. Сигара хороша, она горит, она приятна на вкус, но куришь ее, стиснув зубы, ибо сердце медленно и тяжело бьется в груди. Камера открыта. Еще успеешь остаться наедине.
И времени для сна впереди достаточно, если это можно назвать сном. Нужно глядеть, слушать, дышать. Пальцы рук беспрерывно что-то ощупывают на столе, в карманах, они ощущают подкладку карманов, грубое и приятное шероховатое дерево соснового стола.
Глаза видят через окно широкие снопы золотистого дневного, вернее, вечернего света. Наверху, на потолке — пауки, вот зимние мухи, они жужжат и медленно, как объевшиеся вороны, летят, ударяясь о стекло. С ними ничего не случится…
Внезапно Гриша вспоминает: на нем еще шерстяная фуфайка, не пропадать же ей. Он снимает ее через голову, опять надевает куртку. Спине холодно, он быстро застегивает куртку. Но голове жарко, он снимает фуражку. У него потребность все время ходить взад и вперед. От стоящей у окна табуретки до двери камеры — семь шагов, и Гриша, опустив плечи, отмеряет эти семь шагов.
Ему все еще холодно. Он надевает шинель, добротную русскую шинель. Надо сходить за нуждой, он идет к унтеру, и ему дают человека, который сопровождает его. Звуки шагов по каменным плитам приятно отдаются под сводами.
Снег во дворе чудесно хрустит под гвоздями сапог, прозрачный свежий воздух бодрит, ударяет в ноздри, охлаждает виски. Приятно сидеть в нужнике, опорожняя желудок.
«Хорошо все, что полагается живому человеку, — думает Гриша, стиснув зубы и вытирая со лба пот, который вдруг, среди зимы, прошибает его. — Ну, недолго тебе потеть!»
Он приводит себя в порядок и плетется обратно в сопровождении солдата с ружьем. Пока он еще ступает легко — еще нет ощущения тяжести в коленях, словно на них повис тяжелый груз. Он легко возвращается в камеру. Теперь он чувствует себя лучше. Хочется вымыть лицо. Быть чистым, очень чистым. Теплой водой он смывает грязь с рук и с лица. Глинистое мыло, словно мягкий коричневый камень, не пенится, а мажет, «Все же становишься чище», — думает он. Он требует цирюльника, он хочет побриться. Через три минуты из барака первого взвода является ротный цирюльник Эрвин Шарский, обыкновенный солдат. Гриша сидит в кругу команды, отдыхающей после обеда. Все курят, читают, две партии играют в скат, одна — в шахматы. По сравнению с шумом, который обычно стоит в этот час, в помещении очень тихо.
В большой, длинной, как кишка, караульной слышны бормотанье, ворчанье, шепот. Гриша сидит с закрытыми глазами — за ворот заткнуто полотенце, лицо приятно смочено горячей водой, намылено миндальным мылом, он дремлет. Теперь, когда он бреется, никто не может прийти за ним. Пока длится бритье, его жизнь вне опасности. Теперь даже ему захотелось спать. Но надо бриться, и он слышит, как брадобрей точит на ремне бритву, пытается занять его разговорами.
«Георгиевский крест я приколю, — думает Гриша, — выну из кармана куртки, куда я запрятал его, и приколю к шинели».
Цирюльник рассказывает об огромных крысах, которых он видел в бараках Шампани. Крысы были как белки, почти как кошки. Но рассказчик вдруг осекся, когда дошел до того места, как крысы, наевшись отравы, неподвижные и мертвые полегли на спинках, вытянув передние лапки, — сорок одну штуку нашли в одном блиндаже. Ему было тяжело сказать, что крысы лежали неподвижно, и он схитрил: в сотый или, может быть, в трехсотый раз он рассказывал эту историю, но впервые с таким благополучным для крыс концом. На этот раз, оказывается, крысы почуяли яд — и не прикоснулись к нему!
Читать дальше