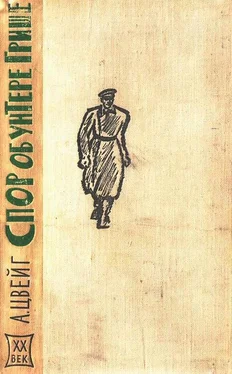«Заговаривается, — подумал Захт, — слова бегут у него, как слюна».
Он тяжело вздохнул.
А если Гриша вздумает его задушить? Ведь терять осужденному нечего! Если он в последний раз вдруг попытается бежать? Ведь они совсем одни, может быть, во всем этаже. Команды выстроились напротив в главном корпусе и толпятся на лестницах и в коридорах до самого входа внизу, чтобы под присмотром Шпирауге получить в канцелярии жалованье из рук казначея или табачные изделия от унтер-кладовщика. Кто, поскольку ему нечего терять, упустил бы хоть какую-нибудь возможность получить свободу даже ценою убийства? И на всякий случай Захт дослал в ствол винтовки боевой патрон и спустил предохранитель.
Слова Бреттшнейдера, брошенные на ходу, крепко засели в голове Захта. Он сидел здесь, в жутком настроении, разрываемый жалостью к Грише и страхом за собственное благополучие. А тот, другой, сидел рядом, неподвижно уставившись в свечку, бормотал и шептал что-то, точно разговаривая с пламенем: охватив лицо руками, он взглядом следил за тем, как догорала свеча, а с нею — его собственная жизнь.
Отбрасывая на стену огромную, как пушка, тень, пылала жарким угольным пламенем печка: караульная команда не совсем честным путем раздобыла у паровозных кочегаров немного крупных брикетов. Уже наступили глубокие синие сумерки. В помещении было тепло, но как-то жутко — среди бормотанья и пляшущих в пустоте теней.
Гриша злился на самого себя. Он упрекал себя за страх, перечисляя те бесконечные мучения, которые уже были позади, и те, которые, останься он жив, еще предстояли ему. Он внушал себе, что предстоящая ему сейчас смерть гораздо лучше, чем отъезд на фронт, когда он покидал Марфу Ивановну.
«С чем ты, собственно, расстаешься, парень? — спрашивал он себя. — Ни с чем — с дермом, с тюрьмой, с новыми тюрьмами. Ясно, останешься в живых, тебя запрячут в тюрьму. Работать, мерзнуть, недоедать, опять и опять мокнуть под дождем! Русские — разве они заключают мир? Нет, они воюют! А немцы — домогаются они мира? Нет, им нужна война! А ведь есть еще французы, и англичане, и американцы. Нет, войне конца-края не видно. А тут все уже налажено для тебя, парень. Ты примерил свой гроб, приготовил себе подходящее жилье… Ты хотел домой, да? Ты этого хотел. Но ведь они не пускают тебя. Между тобой и твоей покосившейся избенкой стоят проволочные заграждения, штыки, мины и пулеметы, ураганный огонь снарядов.
Эх, Гриша, — вздохнул он, обращаясь к самому себе, — дурак ты, если трусишь… А все-таки ты трусишь, олух-солдат… Хоть бы Бабка пришла! Она собиралась скоро прийти. Она сейчас придет, она носит ребенка от тебя, и у Марфы дома тоже малыш, ох-ох! И что толку в том, что ты тут трясешься, как овечий хвост?»
Но он всем телом дрожал от лихорадочных приступов смертельного страха.
В запертую наружную дверь постучали.
Герман Захт открыл. Он почувствовал огромное облегчение, хотя это была всего-навсего Бабка. В большом платке, с корзиной в руке, она прошла в дверь, оглядывая энергичными серыми глазами необычно пустое помещение.
Да, подтвердил Герман Захт, Гриша сидит там, в камере. Хорошо, что она, Бабка, пришла, надо его ободрить, развеселить. А потом он получит ужин и водку.
— Водку? — спросила Бабка. Вот хорошо-то. У нее тоже с собою водка, и она указала на прикрытую тряпкой корзинку, на дне которой лежали две бутылки водки.
Гриша схватил ее за обе руки и притянул к себе на скамью. Он так рад ей! Как хорошо, что она пришла проведать его, завтра конец всему.
Зубы его стучали, глаза почти совсем закатились. Хорошо, если бы все уже минуло. Конечно, все могло бы быть иначе. Но и так ладно. Только бы скорее конец.
Герману Захту пришлось наконец отлучиться за надобностью. Он покамест запрет их снаружи, пусть не обижаются. И ушел. Приятно было на время очутиться вне этого наглухо запертого помещения.
Бабка жалостливо погладила руки Гриши, поцеловала их и сказала:
— Мы попозже уйдем отсюда, не бойся. Водка при мне, ее хватит на всех. Две бутылки — в одной хорошая, в другой — отравленная. Хорошей выпьем сейчас, от нее согреется нутро, отравленной пусть потчуются те. Как только им станет плохо, как только водка начнет действовать, ты уходи, я буду ждать тебя снаружи, в подъезде, у черных ворот еврея Ротштейна. Им будет очень худо, может статься, они помрут. И ты легко справишься с ними, Гриша. Еще этой ночью мы так запрячем тебя, что никто не найдет. Купец Вересьев, если крепко держать его в руках, наш пособник. У него спрятан ключ от маленькой боковой двери собора. Он откроет ее. Под алтарем, в крипте, ты проживешь первую неделю, там будет хлеб, водка, свечи. Там еще довольно тепло. Лежать будешь на мягком, потерпишь, пока я приеду за тобой на санях. Ого! — продолжала она уверенным победным тоном, хотя глаза ее боязливо и пытливо искали взгляда Гриши, устремленного прямо на свечу, горевшую в караульной. — Они не опознают нас и не найдут — уж будь покоен! У тебя будет штатское платье — шуба и меховая шапка, будет и паспорт; и мы вместе укатим в Вильно, в санях. Вот видишь! А там спрячемся с тобою у старухи Бьюшевой. Словом, там видно будет. Выпьем, Гриша!
Читать дальше