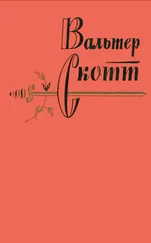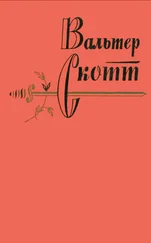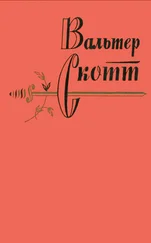Нет, моя дорогая, пусть Гари Кумар сам ищет путь к спасению, если еще жив и если для таких, как он, спасение вообще возможно. Он пережиток, осколок нашего владычества, один из тех, кого мы сами создали, вероятно, с наилучшими намерениями. Но, даже признавая, что Неру может проявиться как крупная моральная сила в международных делах, я не вижу в Индии ничегоспособного противостоять тому расколу, который мы, англичане, позволили ей осуществить и за который несем моральную ответственность. Допустив его, мы создали прецедент для разделов в такое время, когда требовалось как раз обратное, допустили — опять-таки с наилучшими намерениями — от великой усталости, моральной и физической, оттого что не хватило сил заглянуть в будущее и понять, чем чревато наше отречение от престола на условиях, продиктованных Индией, а не нами. Может быть, к концу мы уже и не могли предъявить никаких условий, потому что не сумели сформулировать их на языке двадцатого века, и теперь мир начнет дробиться на отдельные островки враждующих догматов, а те обещания, что маячили даже за худшими проявлениями нашего колониализма, развеялись в прах и останутся в истории как некая имперская мистика, которой зачем-то приукрашивали сугубо практическую и своекорыстную политику.
Помнишь, как наш милый Нелло расхаживал по комнате, зажав в зубах трубку, подарок Генри, и вопрошал, подражая его голосу: «Политика? Политика? К черту политику! Каковы твои мысли и чувства, друг мой, вот что важно. Не будем зря тратить время на мелкотравчатые рассуждения о том, что „может случиться“. Подумаем о том, чего случиться не может и что будет дальше». Как я тогда смеялась! Теперь, вспоминая это, я не смеюсь. Упустить такую изумительную возможность! Своими руками все испортить. Индийцы тоже это чувствуют, да? Хоть и очень лестно, выпятив грудь, усесться свободными людьми за собственные столы, чтобы выработать себе конституцию. Не обернется ли эта конституция своего рода любовным письмом к англичанам, из тех, какие брошенная любовница пишет, когда роман закончился вполне достойным и пристойным, по современным понятиям, обоюдным признанием несовместимости? В мире, который разом опустел и померк, потому что любимый, слава богу, умчался предлагать свою роковую, непостоянную, эгоистичную любовь другим, пытаешься воскресить в памяти те минуты высокой радости, пусть даже не разделенной, которые как-никак были. Но воскресить их невозможно. Тогда соглашаешься на меньшее — быть благодарной за то, что было, забыть о том, на что надеялась и что могло бы быть, и в результате остаешься ни с чем, потому что «меньшее» — это есть у всех, и всякий дурак может это тебе дать, и всякий дурак может унаследовать.
Ужасает меня мысль, что, когда останутся позади пышная процедура цивилизованного развода и взаимные уверения насчет того, чтобы остаться друзьями, постепенно проявится подлинная враждебность, которую оба наших народа хотя с трудом, но сдерживали, пока были основания полагать, что она не может пойти на пользу ни господам, ни рабам. Я, понятно, имею в виду антипатию и страх между белыми и черными. Это гаденькие страсти, годные только для нации грубых лавочников и для нации толстопузых банья. Помню, в тот раз, когда Нелло пародировал Генри, какая ошарашенная физиономия была у одного из его адъютантов (очень воспитанного молодого человека, чей дед разбогател на каких-то бутылках для соуса, в чем не было греха, плохо только, что выше этого он так и не поднялся) и как он, пока я еще смеялась, повернулся ко мне, точно хотел сказать: «Боже мой! Леди Мэннерс! И вы допускаете такоев гостиной у сэра Генри?!» А смысл этих слов был бы тот, что у Нелло кожа была коричневая, а у Генри белая или, точнее, серая, желтая, больная, ведь ему уже недолго оставалось жить. Вот так и все в конечном счете сводится к этому. Это последняя черта раздела, верно? Я имею в виду не смерть, а цвет кожи.
Ну, мы-то с тобой всегда старались не видеть этой черты. Тебе, боюсь, еще долго предстоит закрывать на нее глаза. А письмо это, Лили, вот о чем: когда я умру, ты приютишь у себя Парвати?
Целую. Этель.
* * *
Итак, представьте себе плоский ландшафт, который, поворачиваясь и вздыбливаясь, следует задним ходом за поворотами и зигзагами обслуживаемого «викерсами» ночного рейса 115 на Калькутту, — ландшафт темный, хотя прямо под вами являющий собою узор из огней, разбросанных гроздьями вокруг центральной галактики с несколькими мелкими созвездиями по краям — посадочной полосы аэродрома в пригороде Баньягандж, отрезанного от самого города, потому что шоссе, связывающее его с Майапуром, не освещено, если не считать ночного транспорта (крошечных фар, бегущих, как кажется даже с такой высоты, на удивление быстро), да еще небольшого светлого островка примерно на полпути, где новая английская колония расположилась в удобной близости к Техническому колледжу, заводам и аэропорту, которым пользуются теперь так же привычно, как автобусной станцией.
Читать дальше