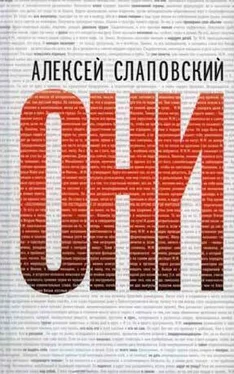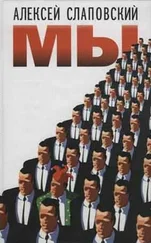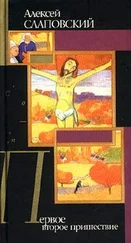А Килил сел в угол, на деревянный настил, закрыл глаза и стал представлять свой будущий дом. Килил часто видел одну и ту же картину: он выходит утром во двор, а там лошадь. Откуда взялась, непонятно. Но — лошадь. Она нагибается, ест траву и встряхивает гривой. Потом видит Килила и идет к нему. Килил ее не боится. Он берет ее за поводья, ведет к крыльцу, залезает на нее. И едет. Едет сначала медленно, а потом кричит: «Но!» — и лошадь мчится по лугу к реке. Но тут почему-то всегда, будто во сне, возникает одно и то же: яма. Какая-то вдруг яма с водой. То зеленый и ровный луг, даже без кочек, а то вдруг яма. Килил пугается, хочет соскочить или притормозить лошадь, ищет поводья, они куда-то подевались, лошадь прыгает, повисает над ямой — и тут, опять-таки как во сне, нет продолжения. То есть Килил насильно фантазирует дальше: все в порядке, лошадь нормально приземляется и продолжает скакать. Но это видится совсем по-другому. До этого все представляется ярко, четко и красочно, будто в телевизоре, а после прыжка — будто испортился телевизор. Туманно, с помехами. Вот Килил и занимается тем, что он мысленно называет «настроить изображение». Рано или поздно получится. Может, как многое в жизни, получится само. Но постараться все-таки надо.
А Геран сначала ни о чем не думал. То есть он подумал, конечно, о необходимости выручить паспорт, но на это долгих усилий не нужно: представилось вспышкой много короче доли секунды лицо тверского лейтенанта, вот и все. И отдался безмыслию.
Когда-то Герана удивляло собственное неумение думать. Осознав писательство как судьбу и профессию, он начал контролировать себя, подлавливать, и результаты огорчали. Вот иду по улице, еду в метро, в автобусе, сижу на балконе — о чем думаю? Получалось — обо всем и ни о чем. Какой-то аморфный процесс, ничего определенного. Однажды друг-художник, молодой педагог, предложил Герану поработать натурщиком. Сиди себе, сказал он, и обдумывай свои великие творения. Геран согласился. Но обдумывать великие творения не получалось. Он смотрел в стену, склонив голову, как его заставили, разглядывал горшок с цветком, прикрепленный к стене, и плыл умом по течению, причем направление течения было сразу во все стороны. Что-то вроде дремы, полусна. В таком состоянии он мог находиться часами, ничуть не уставая. Но результат-то где? Иногда, в виде исключения, неизвестно откуда приходил образ будущего рассказа: лицо, фраза, чье-то действие. Но только образ, дальше дело не шло. Ни деталей, ни подробностей. Все возникало лишь тогда, когда он садился за стол и начинал писать. Только тогда Геран и думал по-настоящему.
Поэтому и написано так мало, огорчался Геран, сделав это открытие. Он пишет только когда пишет. Это плохо. В остальное время, получается, он ничем не лучше похмельного дворника, метущего улицу и тупо мотающего при этом ничего не соображающей головой.
Но однажды вдруг вспомнилось, как в детстве он ездил с отцом к его брату. Тот стал офицером армии, и тем летом его часть оказалась довольно близко: прислали в западный Казахстан помогать гражданскому населению в уборке урожая; в прежние времена такие вещи практиковались постоянно. Брат дал телеграмму отцу, отец захотел его увидеть. Брат встречал и угощал их как мог. Достал где-то бредень и пошли с другими мужчинами к большому пруду. Геран впервые видел, как ловят бреднем рыбу. Бредень был длинный, но и пруд мелкий, поэтому его размотали во весь размах, двое тащили палку возле берега, двое с другой стороны, идя по горло в воде. Остальные подбадривали. И вот завернули, стали вытаскивать бредень на берег. Сначала была голая сетка и ощущение пустой, надувшейся внутри бредня воды. Но вот выпрыгнула рыбешка, показался рак, еще один — и вот большой, черной с проблесками, копошащейся кучей показался улов. Казахи, как потом услышал Геран у костра, не едят раков, поэтому их здесь и пропасть. Впрочем, и отец Герана, из вежливости обсосав две-три клешни, перешел на более понятную ему баранину, которой в тот вечер тоже было вдоволь. Геран помогал сортировать: крупных раков в одну сторону, маленьких — в воду, рыбную мелочь — туда же, рыбешку побольше — на уху, совсем большую рыбу — коптить в специальной железной печке.
И вот он вспомнил это однажды и подумал, что зря изводит себя подозрениями в неумении творчески и сконцентрированно мыслить. У каждого своя натура. Процесс, идущий в нем по ходу жизни, невидим так же, как волочение бредня в глубине. А когда он садится за стол, то есть бредень вытаскивается на берег с уловом-словами, когда начинает сортировать улов — что выкинуть, что варить, что жарить, это — результат предшествующей неосознаваемой работы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу