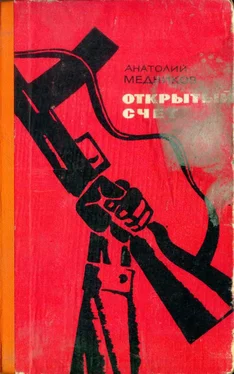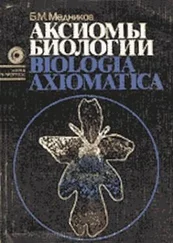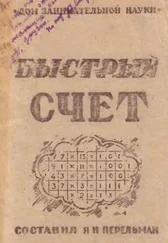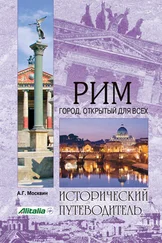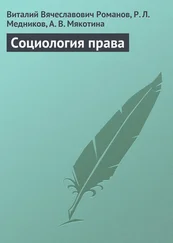— Вадим? А как же, это мой товарищ, — обрадованно заметил капитан. — А вы, значит, болельщик?
— Бывший. А какой он из себя? — спросил Бурцев.
— Кто?
— Ваш друг.
— Какой? Обыкновенный. Среднего роста, худощав. Один глаз у него вставной, стеклянный. Это он в сорок втором на Малаховом кургане вёл репортаж из Севастополя. А вблизи — мина. Ну и осколок в глаз.
— Скажите? — с удивлением протянул Бурцев. — Корреспондентам, значит, тоже достаётся?
— А вы как думаете, я могу записать шум боя на плёнку… по рассказам раненых в госпитале за сто километров от фронта? А?
Бурцев расхохотался.
— Это вы намекаете. Я понял.
— Не намекаю, только мы тоже разные — корреспонденты. Между прочим, в Москве уже начался футбол…
Первенство страны. Календарь и всё такое, как до войны. И Вадим в своей комментаторской будке.
— Он, Синявский, я помню, обязательно скажет: «Вы, товарищи, пришли на стадион отдыхать, а я работать». А потом пошёл и пошёл: «назревают голевые моменты», «время играет в команде хозяев поля» и так далее. А вот ещё вспоминаю эпизодик давнишний, — оживился Бурцев и даже потрогал пуговицу на гимнастёрке капитана. — В Сокольниках. Репортаж он вёл с дерева. Будки специальной ещё не было. Точно, сам видел. Сидел на суку. А сук возьми да обломись. Синявский исчез, а микрофон остался на дереве. Или сук был гнилой, или горячился очень комментатор. Полез он обратно к микрофону и говорит: «Товарищи радиослушатели, мы с вами упали с дерева. Продолжаем репортаж…»
Теперь рассмеялся капитан и зачем-то подошёл к ящику, потрогал там какие-то рычажки.
— Значит, разыгрывают первенство, — вздохнул Бурцев.
У него даже защекотало в горле от того, что он представил себе сейчас стадион, трибуны, его дружки горланят на них, а он, Бурцев, готовится уйти ночью за линию фронта, в бой, возможно, смертельный.
Но капитану он только сказал: «Неплохо бы и на футболе „поболеть“. Протянутый же ему микрофон отстранил ладонью.
— Почему, может быть, вам помочь, тезисы написать? — по-своему понял капитан жест Бурцева.
— Тезисов не употребляю, — вдруг жёстко сказал Бурцев.
Он вспомнил о брате Николае, и ему захотелось сказать корреспонденту, что плёнка не выдержит, если он заговорит о том, чем болеет душа.
— Диверсанты — мелочь. Я хочу какого-нибудь генерала поймать и повесить на дереве. Вот такая мечта. Вы не записывайте — не годится для эфира. Люди мечтают о чём-нибудь хорошем, а я о мести. За брата. Он в концлагере. Если его найду, на радостях убью десять фашистов. Нет, пятнадцать. Вот всё моё выступление. Для вас не подойдёт. Извините. Может, что не так вырвалось. Понять нас, я думаю, можно.
Капитан-корреспондент выслушал бурцевскую „речь“ с такой удовлетворённой и даже умильной улыбкой, словно бы смотрел сейчас на понравившуюся ему девушку, а не на разведчика, у которого то ли от волнения, то ли от водки резко блестели и чуть косили зрачки.
Через минуту Бурцев уяснил себе загадочность этой улыбки, когда капитан признался, что незаметно включил магнитофон. Бурцев не обратил внимания на лёгкое шипение ящика, и импровизированное его „выступление“ оказалось записанным на плёнку.
— На память себе, — пояснил капитан. — Или прозвучит в эфире. Кое-что надо смыть, почистить. А в общем-то искренне, сильно получилось… о мести!
— Валяйте! — махнув рукой, разрешил Бурцев и отошёл в сторону.
Начавшийся вскоре концерт он почти не слушал. Смотрел на сцену, а мысли его были далеко. Вспоминался деревянный домик с остеклённой террасой в Петровском парке, напоминавшем дачный посёлок, если бы не близость глубокой каменной чаши стадиона „Динамо“ с рёвом возбуждённой многотысячной толпы болельщиков на трибунах и аплодисментами, в которых тонул слабый шелест крыльев, когда в честь забитых голов выпускали болельщики в воздух голубей. Они потом пролетали над домом Бурцевых.
И ещё вспомнил Бурцев мать и брата и то время, когда маленькими они дрались и ругались с братом дома, но зато на улице стояли друг за друга горой. Бурцев думал о своём детстве, приукрашивая его в воспоминаниях, как делают все люди, а уж на фронте особенно; на сцене же тем временем плясали солдаты из дивизионного ансамбля, выступал хор и приехавший из Москвы композитор играл на аккордеоне и „показывал“ фронтовикам свои новые песни.
— После меня будет выступать солист, — заявил композитор, — а я, товарищи, сам начавший свой творческий путь в красноармейской самодеятельности, покажу вам свой „Солдатский вальс“ композиторским голосом.
Читать дальше