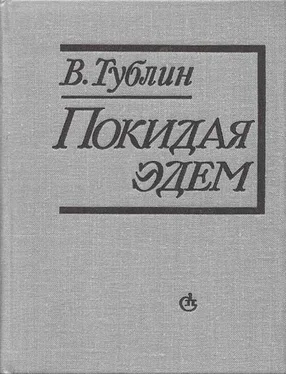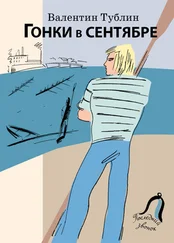Такой вот чай и пил Блинов — темную и вместе с тем прозрачную жидкость, приготовлению которой он отдавал каждый день двадцать минут, как правоверный мусульманин отдает их пятикратной молитве, только Блинов не подстилал под себя коврик и не обращал лица своего к востоку. Чаепитие приносило ему успокоение и душевный покой, но сегодня этого не происходило. Что‑то сломалось в сложном механизме, нарушилось взаимодействие безотказно работавших частей, опасность была разлита в воздухе; под крепость, сооруженную им с таким трудом и с такими усилиями, велся подкоп, и он ощущал глухие и далекие удары заступов, роющих твердую землю на неведомой ему глубине. И все это потому, что сам он нарушил свой собственный принцип «врагов не заводи». Он должен был помнить о нем в ту минуту, когда произносил «нет», пусть даже он сказал это почти против воли. И вот теперь события, вырвавшись из‑под контроля, понеслись в неведомом направлении, и он был в лучшем случае щепкой, влекомой потоком. Странная скованность владела им. Он сидел и пил чай, но сегодня впервые не чувствовал его вкуса. Кругом была опасность, и мысли в его голове были похожи на облака, которые растворяются в небе, не успев принять определенных очертаний.
Была непонятная осенняя безразличность, сонное спокойствие и даже ожидание событий и горьковатый, как запах миндаля, привкус неизбежности. После перерыва идти к главному инженеру.
«Кузьмин, — думал он и глядел в окно, которое, словно прозрачный экран, отделяло его от остального мира. — Кузьмин, Кузьмин…»
И вдруг что‑то вспыхнуло в нем, словно взорвалось, и он увидел свой дом и тетрадь, раскрытую на первой странице, обычную тетрадь в клеточку, где на обложке напечатана таблица умножения или меры веса и объема, увидел эту тетрадь и снова ясно и четко увидел слова, которые были написаны на этой странице, и, когда он увидел их, что‑то сжалось в нем, и он напрягся, как взведенный курок, и словно горело у него перед глазами, как некогда на стене горели предупреждающие огненные письмена. И когда, глядя в окно, он повторял дальше: «Кузьмин, ах, Кузьмин…» — он все видел перед собой эти слова, и голос его становился все тверже и тверже.
Кузьмин был тверд и вовсе не собирался туда идти…
Дверь открывалась и закрывалась, серая и ничем не примечательная, каждое движение ее сопровождалось скрипом. Было так: сначала раздавался скрип, вырывался пар, затем просвет, появившийся было, исчезал, и все это сопровождалось ударом, словно паровой молот опускался на сваю. И между этими звуками — медленным ржавым скрипом и ударом парового молота — вырывавшиеся клубы пара то выплевывали, то слизывали подошедшего вплотную к двери человека, словно внутри то появлялся, то исчезал вакуум, и так продолжалось все время, час за часом и день за днем, в чем каждый мог убедиться, имей он достаточно времени, чтобы простоять, наблюдая это, день или два.
Вот слизнуло еще одну неосторожно приблизившуюся фигуру: человек растворился в белом облаке и очутился внутри, где серое оборачивалось черным. Черный плюш, натянутый поверх плотно пригнанных досок, непроглядно черная темнота и легкое золотисто‑зеленоватое мерцание подсветки, мерцание, становившееся золотистым после того, как оно пробивалось сквозь бутылки с коньяком, или зеленоватым — через шампанское, а посреди этого мерцания или, точнее, среди него, словно окруженное нимбом, белело полное женское лицо с жесткими светлыми глазами.
Черная темнота. Однако светлые жесткие глаза, чуть подведенные синим в веках, взглянув, узнают едва различимое, скорее угадываемое лицо в длинных продольных морщинах. «Катя!» — говорит он, но это слово не является необходимым, так же как и поднятые главным инженером проекта Кузьминым растопыренные пальцы — указательный и средний; едва завидев это лицо, красное при обычном свете и бесцветное здесь, полная белая рука уже потянулась точным движением к одной из подсвеченных бутылок. И в то время как Кузьмин еще только утверждается возле стойки, обитой черным пластиком, на высоком, тоже черном табурете, перед ним стоит уже высокий, расширяющийся кверху двухсотграммовый стакан, и он успевает только заметить бесшумное исчезновение красивой полной руки.
Его рука, большая, поросшая черным жестким волосом, нетерпеливым, несколько судорожным движением берет стакан, привычно угадывая сквозь прохладную гладкость стекла силу взрыва, скрытую в янтарной переливающейся жидкости…
Читать дальше