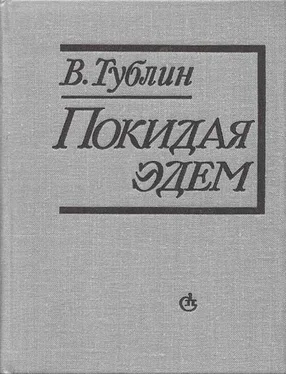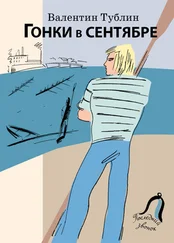Есть холм, поросший ромашкой; чуть левее, вливаясь в реку, журчит ручей, позади холма — поле, которое стелется под ветром зеленой шелковистой волной, а прямо перед глазами и далеко‑далеко, покуда хватает взора, — бескрайняя река: бурые всплески внизу, там, где она отгрызает от подножья холма огромные куски темно‑коричневого суглинка, дальше, к середине — серебристое мерцание, заставляющее сердце биться сладостно и учащенно. А далее взор, тщетно стремясь проникнуть за пределы горизонта, тонет в бескрайней синеве.
Трансформация реальности и способность к перевоплощению… Да. Ибо при этом происходили не только изменения, вызванные сменой внешнего зрения и слуха на внутренний, но и более глубинный процесс, название которому он затруднился бы дать. Ощущение единства с окружающим миром? Весьма приблизительно. В минуты перевоплощения он сам изменялся. Он исчезал и вновь появлялся, но уже преображенным, превращаясь в холм, в реку, в поле… Да, он давал жизнь налитым колосьям, он слышал над собою посвист ветра; и в то же самое время он был рекой, он нес на себе радужные нефтяные пятна, черные туши пароходов и россыпь мертвых стволов.
И все это был он, Блинов. Так что же это было?
Можно было называть это проектированием. Для Блинова же это было жизнью. Он жил в изменяемом им самим мире, изменяясь вместе с ним.
Попробуйте определить чувства, испытываемые человеком, который втиснул ногу в обувь на два номера меньшую, чем ему нужно. Здесь даже не требуется воображения, ему здесь нет места, просто удобно или неудобно, здесь жмет, дайте, пожалуйста, вот ту пару… вот теперь совсем другое дело, благодарю вас.
Ему было удобно, если комплекс проектируемых сооружений стоял так, как надо. Он мог угадать правильное расположение объектов с одного раза или подбирать до бесконечности, все это определялось его ощущением — удобно или нет. Если нет, он ерзал, двигал технологические линии, переставлял здания — это сюда, это сюда, вот так, здесь сократим расстояние, здесь отодвинем… Дышать становилось легче… Еще немного… Трубопровод уходил чуть левее, линии электропередач смещались к северу, дорога сама огибала участок косогорного болота, прижималась к опушке, изгибалась плавной дугой, вбирала в себя накатанную колею проселка и выходила в том самом месте, где ей было назначено с самого начала. Там уже стояли ворота, и проходная, и забор, ограждающий площадку от нескромных глаз, затем шла живая изгородь, а все свободное место занимали фруктовые деревья. Он рисовал волнистый кружок диаметром чуть менее одного сантиметра, в середине кружка ставил точку, от точки выносил тонкую линию и выводил печатными буквами: «плодовые деревья», а в скобках добавлял: «вишня».
Вот что он делал и чем он жил — воображение, чувства, способность к перевоплощению и трансформации. Проектирование? Может быть, может быть. Но для него это была жизнь. Иное ее измерение, и только. А поскольку природа никогда не повторяется в отличие от обозначающих ее условных знаков, которые всегда одни и те же, то и сам он, Блинов, всякий раз бывал иным, не похожим на предыдущего, и всякий раз он испытывал разные чувства.
Так, например, в прошлый раз, совсем недавно, он был маленьким озером где‑то в тридцати или сорока километрах от Калининграда. Озеро лежало в уютном углублении меж холмов. Холмы были покрыты кудрявой порослью зелени, красные черепичные крыши казались лодками, застывшими в зеленом сказочном море. У самого берега росла липа в несколько обхватов. В дупле этой липы догадливостью местных властей была поставлена вкруговую скамейка со столом в самой середине, и особым шиком как у местных жителей, так и у заезжих гостей считалось посидеть там, в этом природном и чуть лишь облагороженном цивилизацией гроте, с бутылкой холодного пива, которое предусмотрительно продавалось здесь же.
Поблизости и далее по плоскому озерному берегу и на гористом его склоне не было недостатка в многолетних деревьях; там тоже росли и липы и каштаны, среди которых можно было, пожалуй, найти деревья в обхват и более, но, бесспорно, второго такого дерева не было. Говаривали разное — что этой липе двести лет, триста, четыреста, но все это, естественно, было не более чем досужие разговоры; узнать это при жизни липы никому не было дано. Для этого надо было спилить ее или трансформироваться каким‑либо волшебным способом. Вот тут Блинов и был на высоте, ибо он в это время был озером и уже по одному этому обстоятельству оказывался постарше липы — любой, пусть даже очень старой, и, если бы он мог как‑то довести свои знания до людей, сидящих в тенистой прохладе с бутылкой пива, он сказал бы, сколько этой липе лет, назвал бы ее возраст и точную цифру — пятьсот шестьдесят два года. Первый тощенький и довольно жалкий побег проклюнулся сквозь землю и потянулся ввысь на этом самом месте ровно за год до битвы при Грюнвальде, о которой потом шло немало разговоров. Вот как оно было: 1409 год. А что до того, что липе никто не давал ее лет, — здесь причина та, что человеческий разум может сознательно охватывать временные периоды, лишь соразмерные с пределами жизни самого человека, после которых все становится настолько зыбким и сомнительным, что для человека все едино уже — двести ли, триста ли лет.
Читать дальше