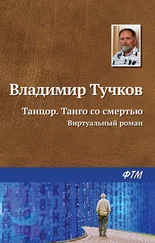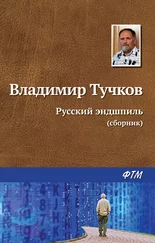К двадцати семи годам Давыдов потерял вкус к жизни. Будто бы очки на него надели рентгеновские, чтобы он смог убедиться, что все ее кажущееся разнообразие есть пляска абсолютно идентичных скелетов.
Перестал различать девушек, которые за две минуты до постели шептали о том, что как же он им нравится, и проституток, которые точно такими же словами заполняли непродолжительную паузу между раздеванием и соитием. И те и другие ровно наполовину были искренни и наполовину – врали. Просто одни думали, что нашептывают правду, другие – что ложь.
Не находил ни одного отличия между кошками и собаками, у которых даже число хвостовых позвонков было одинаковым.
А однажды, в супермаркете, остановил взгляд на животе беременной женщины. И потом перевел его на рыбу, которую она опускала в тележку. И то и другое различалось лишь размерами и ничем более!
После этого он уже ничего ни с чем не сравнивал в связи с абсолютной бесперспективностью, да и ненужностью этого занятия.
Жизнь, понял Давыдов, – это биология. А биология всегда равна самой себе.
Это знание в какой-то мере принесло облегчение. Словно прорвался флюс. Стало легче. Но жить теперь предстояло с постоянным ощущением гноя во рту.
Так он прожил год. С привкусом биологии, которую изредка удавалось сплевывать. После какого-нибудь модного романа, который он заставлял себя читать в гигиенических целях. Но, к сожалению, такие – истинно модные – выходили нечасто. Несмотря на, казалось бы, огромный спрос. Нет, понимал Давыдов, биология не может описывать саму себя, поскольку присущая ей рефлексия остановилась в своем развитии на эмбриональном уровне.
Со временем к нему пришло понимание того, что нынешняя биология может быть осмыслена и описана языком какой-то другой биологии. Как, например, Лев Толстой рассказал всем всю правду о войне 1812 года, когда из участников тех великих биологических событий мало уже кто оставался в живых.
Собственно, Давыдову было абсолютно по хрену, когда это свершится и сколько еще надо ждать. Поскольку ограниченный промежуток времени, обволакивающий скелет, был для него столь же аморфен, как бубль-гум, чавкающий во все стороны. Однако исследовательский рефлекс в нем все еще слабо пульсировал. Во всяком случае, на абстракции его теплящейся мощности пока еще хватало.
Поэтому перевернул проблему, словно песочные часы.
Может быть, возможно описание и объяснение нынешней биологии языком биологии прошлого?
Лев Толстой тут явно не годился. Потому что все его персонажи уже давно умерли не только физически, по прошествии отпущенного каждому организму конкретного отрезка времени, но и метафизически, поскольку были включены в хрестоматию, где произошла их ассимиляция с другими персонажами других хрестоматийных авторов. И это лишило их индивидуальных качеств и, следовательно, своего «я».
Еще хуже было с литераторами, которые пришли позже. Они наплодили клонов персонажей Толстого, пропущенных через мясорубку массового сознания и лишенных дворянства и чувства собственного достоинства. То есть эти изначально были мертворожденными.
Музыку Давыдов не знал и знать не хотел.
К живописи и скульптуре у него было хоть и более осмысленное нейропсихическое отношение, но оно было внеэстетического характера. В школе, проходя с одноклассниками по залам Третьяковки, вместо того чтобы слушать экскурсоводшу и, повинуясь ее указаниям, отслеживать на холстах те или иные композиционные и сюжетные нюансы, он внимательно осматривал одни лишь рамы, пытаясь отыскать замаскированную от посторонних взоров кнопку «Play». Ведь глупо же, черт возьми, все время пялиться на остановившуюся картинку! Да и сейчас, проходя, например, мимо памятника Юрию Долгорукому, Давыдов всякий раз ловил себя на желании отвесить чугунному коню такого пинка, чтобы человеко-лошадиная композиция хоть немного проскакала по Тверской.
Что же касается театра, то за последние сто лет он не претерпел ни малейших изменений. Следовательно, ловить тут было абсолютно нечего.
И тогда Давыдов понял: вместо лукавого искусства надо воспользоваться непосредственно биологией отмершей жизни, забальзамированной в кинохронике. Попросил Осадчего, который работал в Красногорском киноархиве, и тот перегнал на бытовые кассеты несколько лент. В основном это были «Новости дня», что-то типа разогревающей программы, которую в старину крутили в кинотеатрах в начале каждого сеанса.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу