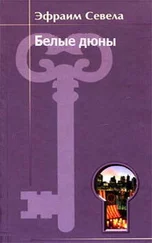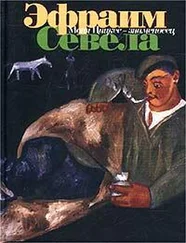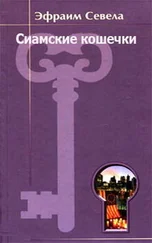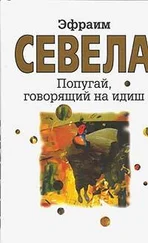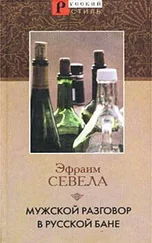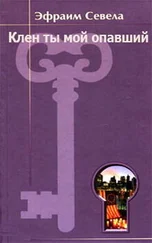В присутствии дочери мы уже не рисковали критиковать советскую власть. Она мгновенно вскидывала свои темные мохнатые ресницы и устремляла на нас недобро сверкающий взгляд. Мы умолкали под этим взглядом, нам порой становилось даже жутковато.
Рута из той породы людей, которые не могут жить без веры, идеала. Религию и Бога атеистическая советская власть ей не дала. Взамен предложив себя, сладко-заманчивые идеалы коммунизма, который, по предвидению Карла Маркса и Владимира Ленина, должен принести счастье человечеству, сделав всех людей равными и свободными.
Однако где-то в тайниках души она оставалась нежной и ласковой девочкой и часто, оставаясь со мной наедине, обнимала меня, целовала и нашептывала на ухо по-детски наивные и трогательные признания в любви.
Матери она сторонилась с самых ранних лет. Ее отпугивал острый запах спиртного, который часто исходил от Лаймы, и она морщилась и кривилась, когда та обнимала ее, и старалась вырваться из объятий и убежать. Лайма страдала, видя, как дочь чуждается ее, но бросить пить не могла, а, наоборот, пила еще больше, заливая свое горе. Ссориться с дочерью, прикрикнуть на нее, оскорбить обидным словом, как она это позволяла со мной, Лайма не смела. Она боялась Руты. Боялась ее решительного, не знающего компромиссов характера и понимала, что первая же открытая ссора сделает их окончательно чужими людьми и на примирение не будет никакой надежды.
Я не раз видел, как Лайма, простоволосая, неумытая, с тяжелой с похмелья головой, наблюдает из своей спальни, как я одеваю девочку, кормлю ее завтраком и провожаю в школу. Потом она прилипала к оконному стеклу, когда Рута выходила из дому, и украдкой любовалась своей дочерью.
Рута меня расспрашивала о войне, о гетто, о гибели моей матери и сестренки Лии, о том, как я спасся и скрывался в нашем доме, где тогда жила ее мать Лайма с родителями. Мои рассказы она слушала с горящими глазами, переживая все с такой остротой, словно это происходило с ней и ее убивали дубинкой по голове, как бабушку, из нее выкачивали кровь до последней капли, как из ее тети Лии, которая так и не стала старше семи лет. О родителях Лаймы я не распространялся и лишь говорил девочке, что эти ее дедушка с бабушкой погибли во время войны, а подробности их гибели никому не известны.
Рута настояла, чтобы я с маленьких фотографий своей матери и сестры, которые я случайно нашел после войны в бумажном хламе, сделал увеличенные портреты, и она сама склеила из картона рамки и повесила в своей комнате по обе стороны портрета своего слепого кумира — Николая Островского.
Фотографий же Винцаса и его жены она в своей комнате не повесила. Они висели в спальне у Лаймы, и Рута, интуитивно чуя какую-то жуткую тайну за этими крестьянскими лицами, больше о них не расспрашивала.
Но утаить правды от нее не удалось. Кто-то, — я так и не добился у Руты, кто это сделал, — рассказал ей, чем занимался во время войны Винцас и что он жив до сих пор и отбывает за свои преступления пожизненный срок в Сибири.
Она не устроила ни истерик, ни сцен. Пришла ко мне бледная, кусая, как это делала, волнуясь, Лайма, губы и тихим, безжизненным голосом рассказала обо всем, что узнала. Я молчал. Что мог я ей сказать? Возражать было нелепо, лгать дальше бессмысленно.
— Папа, как жить после этого? — спросила она, опустившись на колени и обняв мои ноги.
— Я ведь живу, — пожал плечами я.
— Он убил мою бабушку! И считается моим дедом? — Ее сверкающие глаза были снизу устремлены на меня.
— Можешь не считать его дедом, — сказал я.
— Но во мне же его кровь! Кровь убийцы и палача!
— В тебе же и кровь бабушки. Невинной жертвы. Доброго и честного человека. И от тебя зависит, чтобы именно эта кровь в тебе победила.
— Я должна пойти в комитет комсомола и все рассказать… Какого я происхождения…
— Они и без тебя это знают.
— Почему же молчат?
— Потому что сын за отца не в ответе, тем более за грехи дедушки.
— Я все же пойду и все выложу. А то еще решат, что я знала и скрывала.
В том учреждении, куда она явилась каяться, ей действительно сказали, что о ее деде Винцасе им все известно, и весь дальнейший разговор был почему-то обо мне, ее отце, который в свое время был обвинен в космополитизме и низкопоклонстве перед Западом — больших грехах перед советской властью.
Совершенно растерянной пришла ко мне Рута. В ту ночь мы проговорили очень долго, почти до рассвета. Я объяснил ей в очень осторожных выражениях обстановку того времени и гонения, которым я подвергался лишь за то, что был евреем.
Читать дальше