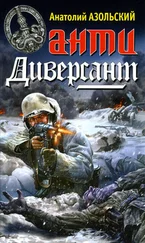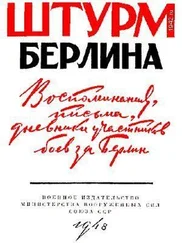Мама свою коробку назвала Карлом-Хайнцем. А потом пришел психотерапевт и стал мучить ее вопросами. Сначала он поинтересовался, не отец ли это случайно.
– Кто? – удивилась мама. Врач кивнул на коробку. Мама покачала головой. Тогда он спросил, кого же зовут Карлом-Хайнцем, и мама ответила:
– Ну, эту коробку под потолком.
Тогда психотерапевт поинтересовался, как звали отца моей мамы.
– Готлиб, – ответила мама, а врач сказал на это «Ага!». Это «Ага!» звучало так, будто теперь он абсолютно все понял. «Готлиб» – «Ага!» Правда, мама не знала, что именно понял врач, он ей этого не говорил. И так в этой клинике, по рассказам мамы, бывало всегда. У всех постоянно были такие лица, будто они что-то поняли, но никому об этом не расскажут. Когда папа услышал историю про коробку, он от смеха чуть со стула не рухнул. Он все повторял:
– Бог ты мой, как печально! – и смеялся. Я тоже смеялся, да и маме казалось, что все это ужасно смешно, особенно когда она была уже дома.
Вот об этом я и написал в сочинении, а чтобы пристроить слово «спасение», пришлось вставить эпизод с кухонным ножом. Ну а потом я уже так разошелся, что прибавил еще случай, когда мама с утра вышла из комнаты и перепутала меня с отцом. Это было самое длинное сочинение в моей жизни. Я исписал страниц восемь, по крайней мере, и мог бы написать еще вторую, третью и четвертую части, если бы захотел. Но как выяснилось позже, первой части было вполне достаточно.
Я читал свое сочинение вслух, и весь класс был от него прямо-таки в диком восторге. Но в какой-то момент Шурман попросил всех успокоиться и сказал:
– Ну, прекрасно. Прекрасно. Сколько у тебя там еще? А, еще так много? Тогда пока хватит, наверное.
Читать остальное было не нужно. На перемене Шурман попросил меня задержаться: он хотел посмотреть мое сочинение. Я стоял около учительского стола, ужасно гордый, потому что мое сочинение всем безумно понравилось, а Шурман к тому же решил дочитать его до конца на перемене. Майк Клингенберг, великий писатель. Шурман закрыл тетрадку, взглянул на меня и покачал головой. Я подумал, что это он качает головой в знак одобрения, типа: «Как это простой шестиклассник умудряется писать такие сногсшибательные сочинения?». Но он сказал:
– Что за дурацкая ухмылка у тебя на лице? Ты все еще считаешь, что это смешно?
Вот тут до меня и стало потихоньку доходить, что это не грандиозный успех. По крайней мере, в глазах Шурмана.
Он поднялся из-за стола, подошел к окну, посмотрел на школьный двор.
– Майк, – произнес он и повернулся ко мне. – Это ведь твоя мать. Ты хоть подумал об этом?
Судя по всему, я совершил какую-то огромную ошибку, но не мог сообразить, какую именно. При взгляде на Шурмана было совершенно ясно, что я сделал нечто невообразимо страшное. То, что он считает мое сочинение самым ужасным во всей мировой истории, тоже было более-менее понятно. Только почему он так считает, я не знал, и он мне этого так и не объяснил. Сказать по правде, я до сих пор не понимаю. Шурман все время повторял, что это моя мать, и я сказал, что мне, в общем, ясно, что моя мать – это моя мать. Тут он вдруг жутко рассердился и закричал, что это сочинение – самое гадкое, отвратительное и бесстыдное, что он видел за пятнадцать лет работы в школе, и что я должен сейчас же вырвать эти десять страниц из тетради. Я чувствовал себя совершенно раздавленным и, конечно, тут же, как последний идиот, взял тетрадку и хотел уже начать вырывать из нее страницы. Но Шурман схватил меня за руку и завопил:
– Не нужно ничего вырывать на самом деле! Ты что, совсем не понимаешь? Ты должен хорошенько подумать о своем поступке. Вот и подумай!
Ну, я подумал с минуту и, честно говоря, так ничего и не понял. До сих пор не понимаю. Ведь я же ничего не выдумал, не наврал, ничего такого.
Вот после этого меня и стали звать Психом. Почти целый год меня так все называли. Даже на уроке. Даже при учителях.
– Давай, Псих, пасуй мяч! У тебя получится, Псих! Давай, играй низом!
Закончилось это только тогда, когда у нас в классе появился Андре. Андре Лангин. Красавчик Андре.
Андре оказался у нас в классе, потому что остался на второй год. В первый же день он завел себе подружку, а потом менял девушек каждую неделю. Сейчас он встречается с турчанкой из параллельного класса, которая выглядит как Сальма Хайек. Одно время он даже подкатывал к Татьяне, от чего мне было действительно дурно. Пару дней они постоянно болтали друг с другом, в коридорах, перед школой, у круглой клумбы. Но встречаться все-таки не встречались, вроде бы. Этого я бы просто не вынес. Потому что они вдруг как-то престали болтать, а вскоре после этого я слышал, как Андре объяснял Патрику, почему мужчины и женщины так плохо сочетаются, всякие там офигительно научные теории о каменном веке, саблезубых тиграх, родах и всяком таком. Я его еще и поэтому ненавидел. Я с самого первого момента его безумно ненавидел, но мне это было не так-то просто. Потому что он, конечно, не самая светлая голова, но, в общем, не совсем пустой. Андре бывает очень милым, в нем есть что-то такое непринужденное, и выглядит он, как я уже говорил, довольно хорошо. Но при этом он все равно придурок. Плюс ко всему живет на соседней с нами улице – Вальдштрассе, 15. Впрочем, на той улице одни придурки и живут. У Лангинов там огромный дом. Отец у него политик, член городского совета или что-то в этом роде. Ну, короче, понятно. А мой отец говорит:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


![Евгений Долматовский - Штурм Берлина [Воспоминания, письма, дневники участников боев за Берлин]](/books/34539/evgenij-dolmatovskij-shturm-berlina-vospominaniya-thumb.webp)