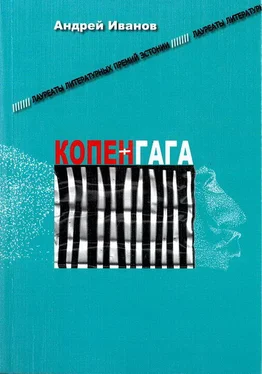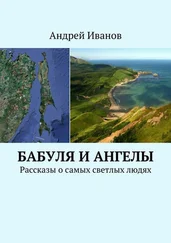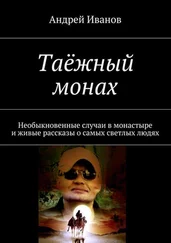Из спальни я видел другой забор — высоченный, до самого неба, основательно выстроившийся аж до поворота, — за этим заборищем жил жуткий крик.
Крик возникал неожиданно, мог длиться бесконечно долго, или, всколыхнув в груди тревогу, затихнуть на день, два; мог звучать долго, серийно, целый день вспыхивая в разных местах.
Забор тот был необычный, не из гладкой доски, — на нем была кора, жесткая, шершавая. Летними жаркими днями на коре выступали капли смолы, поблескивали. Лешка полагал, что забор не делали, он сам вырос, с корой, как дерево, и до сих пор растет. Лешка любил страшные сказки и рассказывал всякие истории; выдумка с живым забором была в его духе. Мы с ним и близнецами ходили колупать кору, чтобы подсмотреть в дырочку, — нам хотелось узнать, откуда берется этот крик, который блуждал за забором, разрезая тишину дня, как сигнальная ракета, пронзал душу и сжимал сердце. Но сколько бы мы ни колупали кору на заборе, сколько бы ни искали в нем щелки, ничего увидеть было нельзя. И однажды Лешка сказал: «Ну, конечно!.. Крик увидеть невозможно!.. Ты же не видишь моих слов, когда я говорю!» Я с ним тут же согласился, и близнецы тоже. Но потом оказалось, что он был не прав. Крик можно было все-таки видеть, когда тот выходил из-за забора, когда он шел и возникал вместе со стариком в кепке, про которого говорили, что он старый «омакаец». [28] От эстонского Omakaitse — «Самооборона» — эстонская военизированная формация, которая выступала на стороне фашистской Германии. Иногда так ошибочно называли тех, кто просто отказывался воевать на стороне Красной армии, становясь дезертиром или «лесным братом».
Но достоверно не было известно; всего лишь болтали, потому что кепка у него была такая особенная, черная, кирпичом, с пуговками, которыми по бокам пристегивались уши, с квадратным козырьком — такие часто в кино почему-то носят полицаи и перебежчики… Вот за это, наверное… Хотя кто знает…
Старик плелся и вместе с ним — крик, как ореол, как всплеск в болоте, как вой в колодце.
Старик с трудом волочил свои огромные сапоги; думалось, в них он исползал все болота, истер не одни портянки, в этих сапогах прели его больные ноги, когда дезертиром замирал он в землянке, прильнув ухом к умирающему радиоприемнику… Чего только не представлялось, глядя на него!
Старик хромал вниз по тропе, что вела к изможденному руслу заболоченной речки; шел, минуя насыпь и колодцы, разбитую солдатскую вышку, полные жижи воронки, вспугивая уток в камыше; смешно взмахивая левой рукой, поправлял свою кепку, иной раз тянул себя за шарф, словно был на привязи; ни с того ни с сего мог остановиться возле березы, потрогать ее сережки, посмотреть на все вокруг с открытым ртом, мог сорвать веточку вербы, понюхать ее… и тогда вдруг снова появлялся КРИК!!!
* * *
Жили мы едва ли в черте Таллина: тридцать минут поездом, до которого идти почти столько же; сорок минут автобусом, на котором меня никогда не возили, потому что здорово укачивало. Место называлось Пяэскюла. Я до сих пор не представляю, что бы то могло значить. Улицу время от времени затапливало, и когда сходила вода, дорога становилась вязкой, грязь чавкала, пытаясь засосать сапоги. Так мы играли, проваливались в грязи, а затем с чмоканием выдергивали ногу, потом другую, иногда оставляя сапог, — и тогда смеялись…
Улица была небольшая. Да и улицей Ильвезе не назовешь. Это была дорога, вдоль которой возникли сами собой домишки, там и тут, вразброс, как грибы.
Все дома были на две семьи, не больше. По соседству с нами жил дядя Клима, он жил один, с ним никто жить не хотел, он шибко пил, курил злую махру да ругался так, что стекла дрожали. Он все проклинал кого-то, кто лишил его ног. Он знал виноватых. «Это все они, доктора, коновалы», — говорил он. Когда на него находило буйство, он метался по дому, во всех комнатах зажигая свет; было видно, как он горбато скакал за окнами, размахивая руками.
Домики были квадратненькие. Сползая по склону, они напоминали брошенные в игре кости, брошенные и все еще катящиеся по обочине… Некоторые были повернуты к дороге одним окном, некоторые двумя. Один, побольше, был всегда с закрытыми ставнями; кособокий, с крышей набекрень, дом улыбался свежим алюминием водостока — как пластина на зубах, которой улыбалась Иришка, старшая девочка со второго этажа. Она была конопатая и носила платье в горошек, у нее была сумочка, в которой было зеркальце, ножнички, булавка, которой она больно колола нас, и увеличительное стекло — им она выжигала слова на газетах, — а также пуговички, их у нее было так много… как звезд на небе!
Читать дальше