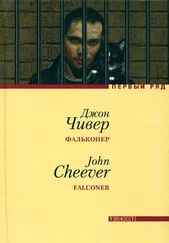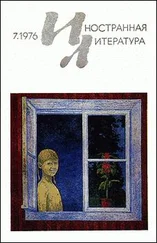— Случается, — бросил лейтенант, стараясь вложить в это слово как можно больше пренебрежения.
Бродяга оскорблял его обоняние, зрение, а главное — чувство приличия, и не столько своей эксцентричностью, сколько тем, что лейтенанту миллион раз доводилось выслушивать подобные разглагольствования. Все они были на одно лицо, эти бродяги, они были еще однообразнее даже, чем те стереотипные в своем мышлении и благопристойности бизнесмены, что возвращаются поездом 6.32 к своим газонам и телевизорам. У всех этих бродяг свои теории, все они побывали в каких-нибудь диковинных местах, все придерживаются какой-нибудь своей, особенной, диеты, у каждого за спиной колоритная жизнь и рассчитанная на эффект манера вступать в разговор. Все они, наконец, имеют обыкновение нацеплять на себя какую-нибудь жалкую франтоватую тряпку, вроде этого шелкового шарфа.
— Надеюсь, вы не едите рыбы, — продолжал бродяга. — Наша река — настоящий сортир. Все дерьмо из Нью-Йорка всплывает здесь дважды в день, во время прилива и отлива. Вы ведь не станете есть рыбу, найденную в сортире, ведь не станете?
Затем бродяга повернулся к Тони и спросил:
— А ты как сюда попал, сынок?
— Не отвечайте, — сказал лейтенант. — Он не имеет права вас допрашивать.
— Уж и поговорить нельзя, — проворчал бродяга. — Откуда вы знаете, что у нас с ним нет общих интересов? А поговорили бы, оно бы и всплыло. Я, например, изучал нравы и историю племени чероки, и многие очень даже интересуются. Я как-то прожил с ними целых три месяца в оклахомской резервации. Одевался, как они, питался их пищей, соблюдал все их обряды. Они ведь едят собачину, знаете? Да, собачина самое для них лакомое блюдо. Обычно вареная, но бывает, конечно, что зажарят псинку. Они…
— Заткнись, — сказал лейтенант.
Без четверти семь позвонили Нейлзу из полиции, и он сказал, что тотчас приедет. Увидев сына в полицейском участке, он почувствовал острое желание его обнять, однако воздержался.
— Можете забирать его домой, — сказал лейтенант. — Думаю, что все обойдется без последствий. Он вам сам расскажет, что случилось. Жалоба, по-видимому, исходит от истерической особы…
По дороге Тони рассказал отцу, что случилось. Выслушав всю эту нелепую историю, Нейлз растерялся. Он не знал, что полагается в таких случаях делать отцу — журить ли сына, давать ли ему какие-то советы или, может быть, приводить какой-нибудь подходящий случай из собственной жизни? Он всей душой понимал, как горько быть исключенным из футбольной команды, и ему казалось, что он вместе с сыном готов был убить мисс Хоу. Листья всех оттенков, но большей частью желтые, танцевали в лучах фар.
— Сам не знаю отчего, — сказал Нейлз, — но мне всегда становится весело, когда я смотрю на листья. Я понимаю, что это мертвые листья, ни к чему уже не пригодные, но до чего же они хороши, когда танцуют на свету!
А потом вот что произошло, в ту же осень субботним вечером.
За домом, в низине, возле рощи сухостойных вязов, было небольшое болотце, в котором каждую весну гнездились красноперые дрозды. Закон природы предписывал им улетать осенью на юг, но многочисленные кормушки, расставленные там и сям по всему Буллет-Парку, извратили их инстинкты, и, окончательно запутавшись, они здесь оставались и на осень, и на зиму. Некогда их песенка — две восходящие нотки, оканчивающиеся резкой трелью, как у цикад, — возвещала перелом лета и наступление первых долгих ночей, нынче же эту песенку можно услышать и осенью и даже зимой, когда земля покрыта снегом. Эта летняя музыка — в один из последних ясных дней года — звучала как оперная реприза, когда примадонна, ожидающая казни, вдруг слышит в своей мрачной келье (Orrido Carcere) радостную любовную тему, ту самую, что впервые прозвучала в начале второго акта. Западный ветер доносил с футбольного поля басовые звуки барабана в оркестре, игравшем перед началом матча между местными командами.
Тони, после того как его вывели из команды, разумеется, не стал тратить освободившееся время на изучение неправильных глаголов. Вместо этого он читал стихи, быть может, он невольно чувствовал, что отныне разделяет с поэтами их таинственный и тягостный удел — играть роль наблюдателя в жизненной драме. Это новое увлечение сына — Тони никогда прежде не читал стихов — вызывало у Нейлза смутное беспокойство. И хоть у него достало такта не пенять Тони за это, но как он ни уговаривал себя, что поэзия является одним из высочайших проявлений человеческого духа, он не мог избавиться от убеждения, что эта область предназначена для некрасивых женщин и изнеженных, болезненно-чувствительных мужчин.
Читать дальше