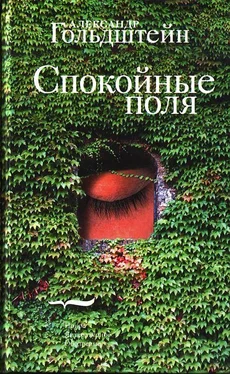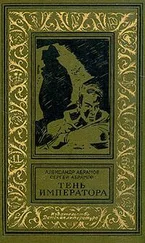Брехтовское восприятие марксизма совпало с начальной работой по возведенью эпического театра, противопоставленного им драматическому (любезный читатель, прохожий, сочувственник, несогласный, кто б ни был ты, неизвестный друг, заклинаю, внемли: я не пишу театроведческий текст и не трясу пред тобой детской азбукой, буки-аз, буки-аз; ход изложения, быть может, неправильный, да поздно менять, вынуждает напомнить банальности, и ничего с этим не сделаешь, уж ты поверь, ничего). Театр драматический пытается зрителем завладеть, пропустив его через катарсис, ужас и сострадание, он требует, чтобы зритель забыл, что находится в иллюзионе, на игрище, представлении, не различая между сценой и жизнью, сполна отдавшись игре, взяв ее как действительность, где ему суждено с плачущим плакать, со смеющимся — хохотать. Драматический театр — упырь, пьющий кровь зрителя, кровь его сердца, нервов и мозга, страшный корчмарь, его спаивающий; эмоциональный вертеп алчет совсем не сотрудничества, но растворения публики, в полном отказе ее от своего естества. Брехтианский, эпический театр устанавливает расстояние между публикой и актерами, дабы зритель не забыл о конвенции, владел бы своими эмоциями и размышлял над смыслом событий, над содержанием сказанного. Зритель этого театра не пленник, а соговорник и совопросник, как сказано в обоих Заветах.
Убежден: в распре двух зрелищ выразилось брехтовское отношение к схватке нацизма и марксизма, что тут вообще не о способах лицедейства, но о противодействии Левого — Правому или уж, если угодно, о театре нацизма и театре марксизма. Драматический театр — машина принуждения, карательного воображения и агрессии против мысли. Это крысолов, погружающий в оцепенение, транс или буйное помешательство, его техника — экстатическое зачаровывание, он забирает в свое исступление и в нем околдовывает, истребляя. Если фашизм (возьмем слово пошире) — шаман, то марксизм сказитель. Он разворачивает на сцене Истории и на подмостках эпического театра повествование наподобие старинных притч, легенд, рассказов о существенном и чудесном, здесь много легендарной и басенной, наставительной фабульности, а вместо гипноза — общение, вместо радения — разговор. Эпический театр марксизма не кровавый обряд, но церковь, в которой священники, не отождествляясь со своими ролями, разыгрывают перед прихожанами историю о страстях угнетенного класса, и паства, вопрошая актеров, о страстях этих думает на языке понимания и трезвого чувства.
Нужно ли повторять, что представлению этому свойствен не только учительный, но и магический образ воздействия, что спектакли по методу Бертольта заставляли переживать катарсическое очищение, что собеседование собеседованием, а сознание искривлялось не хуже, чем у Арто. Уже никому ничего не нужно, и все-таки. Брехт для того предпринял эпический опыт, чтобы отнять у фашизма основу основ его, главное достояние — пафос. Кричащей, овладевающей толпами патетике врага противополагалась рассудочная практика остранения-отчуждения, что, сбрасывая исступление с котурн, разоблачая самое существо бесовщины, присваивала его в пользу левой эстетики и при том — подспудно, но явно, вопреки всем остраняющим декларациям — сберегала оргиастическую его власть и влияние. На миру театральной патетики, а не в тайных лабораториях Пенемюнде и не в эсэсовских, тропами Аненэрбэ, поисках Грааля и Шамбалы, лежало кощеево яйцо ультраправого мифа.
Брехт понял заранее: покуда враждебная фашизму культура не выбьет из его рук пафос, фашизм, в художественных своих преломлениях, будет устраивать празднества возвращения. На фронтах его разгромили. Расовые программы провалились не только вследствие военного поражения. Чаемый антропологический тип выведен не был. Искусству, за исключением считанных, очень сомнительных образцов, разжигающих похоть растлителей, не повезло весьма и весьма. Но есть сфера, где он не сдается и даже справедливо притязает на первенство, сфера, где пред ним беспомощно пасует эстетика левых, которую так долго облизывали и трепали, заушали и чествовали, что сейчас ее, полузадушенной, нет на досках игры. Эта область называется пафосом, тактикой невозможного, стремлением вырваться из пределов.
В последние восточногерманские годы усталость Брехта была так велика, что он вряд ли кокетничал, говоря об утрате страха смерти («после нее никогда Не будет мне плохо, поскольку Не будет меня самого»), но все же не настолько велика, чтобы хоть на пару недель избавить от танцев с властями. Он занес в тетрадь верлибр о Берлинском восстании 1953 года, посоветовав правительству выбрать новый народ, потребовал на посту вице-президента Академии искусств ГДР освобождения искусств ГДР от цензурного помешательства ГДР, по горячему следу настрочил гадость о поджигателях войны и съездил в Москву за премией мира. Чемпион эгоцентриков, он, кажется, становился себе неприятен и ему не нравилось место своего нахождения («Я сижу на обочине шоссе. Шофер меняет колесо. Мне не по душе там, где я был. Мне не по душе там, где я буду. Почему я смотрю на замену колеса с нетерпением?»). Но он не лишился потребности читать Горация, записывать стихи в тетрадь и работать с «Берлинским ансамблем», ради существования которого готов был публично огласить что угодно. Эпический театр был важнее всего остального: в больницу и оттуда на кладбище Брехта унесли после репетиции «Галилея».
Читать дальше