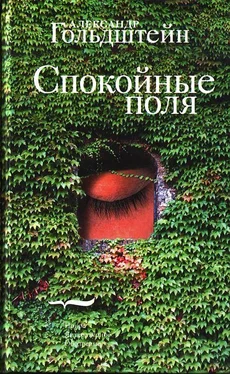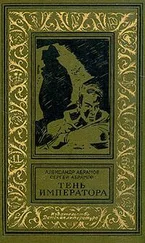Воздам должное гению места, темп сперва был невысок. Левант поспешает размеренно. Ломали и строили, насаждали всечеловечность, какой процвела она в землях, выбранных к подражанию, однако ж не одержимо, не в наведенности, маниакально оторванной от причин и сверхцели, не скупясь на просветы меж билдингами. Распутывая этот клубок, сейчас на балконе близ Лода, Лиддо евангельского, поздней змееборно-георгиевского — апрель, вечереет, огромная, точно при Аврааме, манящая пустошь: арабское стадо овечье, под конвоем лохматого пса, одногорбых верблюдов, с пастушонком-эфебом, бич, заостренная палка, подростки-охальники, стая волчат, разожгут в ямах костры, навзрывают патронов, брань собачья, собачьи, русское приблатненное нововведенье, бега, дети нарковладык, строгих, по виллам рассевшихся мусульман, изящно гарцуют, как на подбор аладдины, в кожаных седлах, на алых попонах, храп гнедых жеребцов, поодаль, у задника, взад-вперед поезда, тупорылые красные в пять-шесть двухэтажных вагонов, зеленые, синие змеи, двадцатка стремительных, низких, самолетное над ними взмывание с виражом и уплывом за облачность, по апрелю недожденосную, — распутывая, так до конца не распутав, противореча себе, я склоняюсь к тому, что погибшие было Найроби изредка, ненадолго, послесмертной за-памятью воскрешали свое волхование в переходное время, появлялись, может быть, новые очажки (ослабевал ли в такие минуты скиталец А.Л.?), отсюда и мягкость переходного времени. То, чем сменилось оно, не предполагало вариантов.
Пресловутая скорость, ненасытность торговли, архитектурные взрывы. Все отразилось в зеркальных утесах и скалах, вихрь компьютерный, все полезло в экран, галлюцинируя, обосновалось в экране, из экрана перекроило весь город. В эту пору убрали юродов: песьи лапы сжимают в могиле перчатку боксера, поперечная трость, горсть монеток, переводы из Радноти в неистлевающем балахоне толстухи; истощилось терпение женщин, друзей, срыли Blues Brothers, усохло кафе эмигрантов, Альды подняли якорь, поманив за собою дельфина. Сильное время поступков, повезло, что увидел его. Ломящийся эпос, порыв. Жизнь богов. Горние голоса. Наставления новой ответственности. И трижды благословенное предыдущее в песчаных, асфальтовых косах Плодородного полумесяца. Мне удалось его застать.
Боже мой, моросит, чего доброго хлынет, неслыханность, небывалость. Смоет стада и костры, кавалерию, велосипеды, брехню очумелых барбосов. Так и есть, не щади, от души, последний до осенней зимы ливень. Лихорадочная поправка-дописка в тетради, капает на страницу, ох ты, как хорошо. В комнате на скатерке-столешнице альбом эрмитажный с камеями, Гонзага, Гонзага.
Университет на юге, книги для уничтожения: в утиль, под нож, под пресс — в рост человека по обе стороны коридора. Нетронутый город, Ур Халдейский, пески Хара-Хото, и я, раскопщик, примериваюсь, тычусь, дрожа от волнения, в корешки. Отойди, стращает тюрчанка-смотрительница, матрона в вязаных носках, поясничном платке, выйдет директор, арестует за воровство. Так сами же отправляете на помойку, у меня хоть что-нибудь уцелеет, не твоего ума дело, наша работа, а другим запрещается, ладно, минута, и чтобы больше не видела. Мудрость ее не чета моей беззаботности, волна откушанного шашлыка, от кокотки не сильнее бы разило мыльной пеной, духами и притираниями будуара, выносит откуда-то сбоку чуть жеманного от своей желудочной основательности касатика-смугляка, скорое на расправу начальство, причмокивающее мясным волоконцем и соком, но я даю стрекача, выхватив переплетенный в два багровых фолианта Уйальдов разлистанный четырехтомник, пясть изъяла из кучи сама, отключив от участия голову.
Книги полнятся плачевной усладой. «Саломея» размечена карандашом для домашнего театра в Тифлисе: Иродиада — Катя, Иоканаан — Сережа, Ирод — Игорь Васильевич. Девичий грифель поет осанну незыблемости, на блузке крахмальной несколько дуновений лаванды из флакона в посеребренной кольчужке. Мужские на страницах для заметок чернила переносят действие в Петроград — сентябрь 1915-го, дождь, солнце, трамваи, пролетки, авто. Воспоминание об ассириологическом семинаре, застрявшем в классификации храмовых блудниц, завершалось неожиданным для вавилонских иеродул наблюдением. Из двух компонентов федоровского учения, писал аноним, — воскрешение отцов и преодоление небратского состояния, что даже невероятнее восстановительного собирания прахов, вторая задача парадоксально проводится нынче в границах просвещенного слоя под раскрепощающим гнетом самого же небратства в его наихудшем обличье — европейской войны. Мужчины в городе — военные, офицеры, женщины, девушки — медицинские сестры, вот в дополнение к филадельфийству под пером объявилось и сестринство, непроизвольно, как бы и независимо от доподлинной повсеместности этих фартуков, платьев, этих красных на головных повязках крестов; то женственная речь потребовала равной доли у языка.
Читать дальше