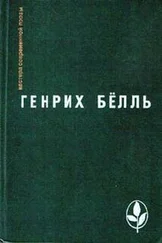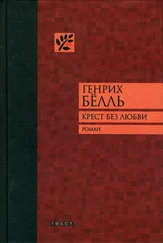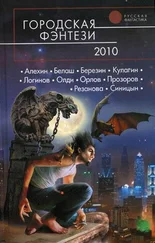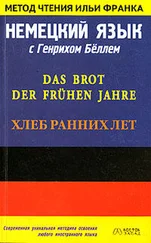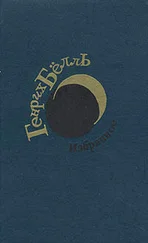1 ...6 7 8 10 11 12 ...335 Таков сюжетный каркас, который держит сложно и прихотливо развивающееся действие романа, формально происходящее в течение одного дня — 6 сентября 1958 года. В этот день, когда «старый Фемель» празднует свое восьмидесятилетие, автор — с точки зрения жизненного правдоподобия вполне искусственно, что его совершенно не смущает, — сводит воедино множество больших и малых событий. Истоки их лежат и во времени до первой мировой войны, и во времени гитлеризма, и в современности. Эпизод из прошлого, который вспоминается в книге чаще всего, — неудавшееся покушение на учителя гимнастики нациста Вакеру, за которым последовали аресты, смертные приговоры, бегство из Германии (в этом эпизоде живет память о реальном событии юности Бёлля — в 1934 году в Кёльне по приказу Геринга были казнены четыре коммуниста, младшему из которых было столько же лет, как и самому Бёллю). Роберт Фемель позднее вернулся в Германию, его друг Шрелла не вернулся даже сейчас, через тринадцать лет после падения гитлеризма. В этот день он наконец приходит — но Роберт Фемель и представить себе не мог, что придет он вместе с Неттлингером, тем гитлеровцем, который избивал их и хотел предать смерти, а сегодня стал видным чиновником военного ведомства и разыгрывает из себя старого друга.
От книги к книге Бёлль утверждал все резче; фашистское прошлое забыть нельзя, «время не примиряет». Сколько бы Неттлингер ни напяливал на себя модную маску «демократа по убеждению», для Шреллы и для Роберта Фемеля — и для самого Бёлля — он так же ненавистен, как и ни в чем не изменившийся откровенный фашист Вакера, ставший полицай-президентом. Но рядом с ненавистью растет чувство бессилия, а иногда и жалости.
Роберт Фемель вернулся в Германию не только ради семьи — он не мог жить вдали от родины. Его любовь к своей стране превратилась в ненависть, и, взрывая аббатство Святого Антония, он расчищал пространство для новой жизни. Но он жалеет, что от него «ускользнула» башня Святого Северина, прекрасное творение зодчих средневековья; таким образом, он в своей ненависти подымает руку и на великую гуманистическую культуру своего народа. Его родной браг Отто — гитлеровец, убитый под Киевом, донес на него гестапо; для Роберта он враг, но ведь они долгое время жили под одной крышей. И их мать недоуменно спрашивает себя; как попал Отто в нашу семью? Невозможностью отделить в истории немецкого народа великое от преступного, национальное от националистического порождается то ощущение замороженности, неподвижности немецкой жизни, которое пронизывает всю эту книгу Бёлля еще в большей степени, чем «Дом без хозяина». То, что расписание пригородных поездов на железной дороге, проходящей мимо аббатства, сегодня такое же, как во времена Гитлера, а во времена Гитлера было такое же, как во времена Вильгельма, что все эти годы в городе, где живут Фемели, существовало ателье Термины Горушки, что секретарши пятьдесят лет тому назад наклеивали марки тем же движением, что и сегодня, — все это для Бёлля лишь средство выразить мысль, что силы, дважды приводившие Германию к катастрофе, живы и поныне. Это — бытовые приметы зловещей неизменности немецкой жизни, которая сегодня, как и вчера, направляется преступниками («принявшими причастие буйвола»), насаждающими насилие, злодейство, войну. Конечно, картина эта односторонняя, и силы, активно противостоящие фашизму, представлены в ней условно, и только при искусственно усложненном построении книги мог удаться тот «кунштюк», который совершает Бёлль, — в романе, поднимающем немецкую историю на протяжении восьми десятилетий, ни слова не сказано ни о Ноябрьской революции 1918 года, ни о существовании ГДР, ни об исторических тенденциях, воплотившихся в ней.
То извечное, «богом данное» деление на «принявших причастие буйвола» и «принявших причастие агнца», которое проходит через всю книгу, очень привлекательно, ибо для Бёлля «причастие агнца» всегда связано с честной трудовой жизнью, а «причастие буйвола» с кровавыми преступлениями и войной; привлекательно, но, конечно, бессильно что-либо объяснить в сложной диалектике немецкой истории XX столетия. Позднее Бёлль отказался от этой символики: «Сегодня бы я ею больше не воспользовался. Тогда это было вспомогательной конструкцией, примененной к вполне определенному политико-историческому фону, причем буйвол для меня был тип Гинденбурга — то есть не Гитлера! — а агнцы были жертвы». Бёлль говорит, что «резко дуалистическое» отношение к людям не свойственно даже его военным рассказам и он не понимает, как в критике могло возникнуть подобное представление о нем. В самом деле, если «буйволы» обрисованы вполне однозначно, то с «агнцами» получается много сложнее, как только Бёлль подходит к активному сопротивлению гитлеризму; тогда выясняется, что их руки «пахнут кровью и мятежом».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Генрих Бёлль Избранное [ Ирландский дневник; Бильярд в половине десятого; Глазами клоуна; Потерянная честь Катарины Блюм.Рассказы] обложка книги](/books/103620/genrih-bell-izbrannoe-irlandskij-dnevnik-bilya-cover.webp)