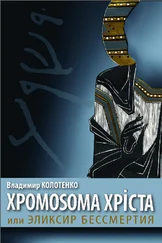Владимир Колотенко
ВРЕМЯ СЛЕЗ
— Я, знаешь ли, теперь, извини, — олигарх!..
— Ты?.. Да ты пыль!.. Пыль чердачная…
(Из разговора)
Мне трудно…
И уже слезятся глаза…
Казалось бы, что плохого в том, что я часами сижу по утрам на берегу речки, любуясь восходом? Вы видели, как сверкает роса на траве, когда первый луч…
Или в том, что я бросил камень в орущий динамик соседа? И попал!.. А что необычного в том, что…
Я, как сказано, еще и левша, и немножко картавлю, а когда волнуюсь даже заикаюсь. И курю, когда выпью? И вообще во мне многое не как у людей. Я, к примеру, не посадил еще ни одного дерева, не выстроил дом… Я не понимаю, отчего люди не понимают меня, когда я спрашиваю, почему стрелки часов крутятся только вправо? Что в этом странного?.. Надо мной смеются, когда я рассказываю, как я, наполнив ванну теплой водой и высыпав в нее пачку соли, бухаюсь потом в эту славную воду и представляю, что купаюсь в Мертвом море. А когда мне дают линованную бумагу, я пишу поперек. Многих это бесит. Почему?..
Странный, странный этот ваш вялохилый, застиранный и заштопанный мир…
Трудно мне?
А то…
Но какое это счастье — трудиться до кровавого пота во благо людей!
Иногда я чувствую себя Богом…
Перекрестие оптического прицела лениво блуждает по счастливым праздничным лицам моих горожан, вяло качающихся на легкой зыби людского потока. Головы — как плывущие по реке дыни: круглые и овальные, желтые, желто-зеленые, серебристо-серые, выеденные солнцем… Указательный палец левой руки занемел от напряжения. Я давно заметил: если один глаз начинает слезиться, тотчас слезится и другой, и мишень тут же теряет свои очертания, расплывается в мареве, словно на оптику упала капля дождя. Или слеза. Я смотрю всегда только на то, что приятно глазу. Сейчас я смотрю на ее дивные большие глаза, иссиня-черные оливы, увеличенные оптикой моего прицела и стеклами ее очков в модной оправе. «Paris». Я привез их ей из Парижа, она, помню, бросилась мне на шею и усыпала поцелуями все лицо, глаза, губы… (Господи, неужели это когда-то было?!). Она давно мечтала о такой оправе с таким модным словом, которая придавала бы ее лицу привлекательный и респектабельный вид. Ты мечтала — пожалуйста! Для меня всегда было наслаждением превращать ее мечты в приятную повседневность и недоступную небесную сказку делать былью.
— Знаешь, мне не хочется…
— Юсь, — говорю я, — потерпи а, ведь осталось совсем ничего…
— Хм! Ничего…
Я из кожи лез вон, чтобы каждая ее, даже самая ничтожная прихоть, каждое самое крохотное желание были удовлетворены через край. И что же? Слеза снова туманит мой взор, я закрываю глаза… Я слышу:
— Знаешь, мне хотелось бы…
— Да-да-да, говори, продолжай… Требуй невозможного!
— Нет, я ухожу… Знаешь…
— Что еще?..
Любит ли она меня так, как я мечтаю — бескорыстно?
Надеюсь…
Ведь если крупинки корысти закрались в нашу любовь, ее ткань вскоре будет раздырявлена и побита, как… Да-да — как пуховый платок молью. И тепло нашей любви тотчас выветрится при малейшем дуновении ветерка недоверия или обиды, не говоря уже о штормовых порывах жизненных ураганов и бурь.
Ни крупинки! Ни зернышка!
Не желаю…
Занемела рука. Разжать пальцы, отвести предплечье в сторону, сжать пальцы в кулак… Ну и кулачище!
Жара…
Желание убивать людей появилось у меня не сразу. Я рос старательным любопытным и послушным мальчиком…
Впервые я примерил ружье лет в пять или шесть, оно мне показалось стволом пушки. Я не смог его удержать, и дед подставил под ствол плечо.
— Нашел?!. — помню, кричал он.
Я должен был найти в прорези прицела жестяную банку.
— Теперь жми!..
Мне нужно было нажать на курок, но он не поддавался усилию моего пальца, и тогда я потянул всеми четырьмя. Банка была прорешечена как сито, а я был признан своим среди молчаливых и суровых людей и причислен к клану охотников. Ружье стало для меня не только средством признания, но и орудием процветания. В олимпийской команде я стрелял лучше всех, но всегда был вторым. Только у людей есть такой закон: лучше не тот, кто лучше, но тот, кто хитрей, изворотливей, сволочней. Эта яростная несправедливость стала первой обидой, посеявшей в моей ранимой душе зерно мести и поселившей в сердце затаенную злость к этому миру. И чем дальше я жил, тем крепче укоренялось зерно, тем сильнее стучало сердце, тем звонче звенел колокол мести. Я искал утешения в книгах: Аристотель, Анаксагор, Анаксимен, Платон, Плотин… Нашел? Хм!.. Затем были Сенека и Спиноза, Монтень и Ларошфуко, и Паскаль, и… Я искал истину, роясь в пыли истории, как голодная кура в навозной куче. Августин, Сервантес, Рабле… Цезарь, Суворов, Наполеон, Гитлер… Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин… И теперь эти… нынешние заики… Вон они все… на полках… Залежались умники!.. А эти, нынешнии, не способны даже строчку сотворить, чтобы наполнить закрома истории. Где они, сегодняшние Сократы?
Читать дальше