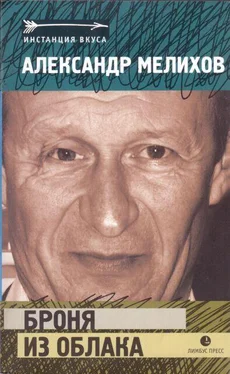Собственно говоря, и всякое мышление есть не что иное как подтасовка, подгонка фактов под желаемый результат, — от ученого можно требовать разве что соблюдения главных пунктов научного кодекса: быть открытым чужим подтасовкам и не обращаться за поддержкой к толпе. А в остальном…
Напомню, что доказанных утверждений вообще не бывает — бывают лишь психологически убедительные, то есть очаровывающие, льстящие, поражающие воображение. На поверхностный взгляд, чарующие химеры делятся на коллективные и индивидуальные, но на самом деле практически все значимые личные фантазии могут существовать лишь в качестве ответвлений коллективных, а коллективные становятся материальной силой только тогда, когда им удается очаровать индивида, наделяя его воображаемой картиной мира, внутри которой он начинает представляться себе красивым и в какой-то степени даже бессмертным — или хотя бы уж причастным чему-то прекрасному и долговечному. Именно отсюда берется та огромная фора, которую социальные грезы имеют перед личными, ибо даже самый сильный и прославленный человек в трезвые минуты не может не ощущать своей мизерности и мимолетности перед лицом грозной вечности.
Однако национальные фантазии имеют серьезное преимущество даже перед фантазиями корпоративными, ибо человеку трудно удовлетвориться воодушевляющей сказкой о себе, которая не включала бы какой-то красивой легенды о его происхождении, а из сказок корпоративных лишь очень немногие уходят в таинственную поэтическую древность, из которой истекают все национальные сказки: сказка индивида почти невозможна без сказки рода. Либеральная же, индивидуалистическая греза, боюсь, останется совершенно неконкурентоспособной, если не придумает и не будет настаивать на каком-то своем древнем благородном происхождении, на какой-то форме служения чему-то бессмертному (наследуемому), ибо не страдать от ощущения собственной мизерности и мимолетности умеют лишь немногие счастливцы, сверхчеловеки и недочеловеки.
Борьбу народнической химеры с монархической, марксистской с народнической, интернациональной с национальной мы знаем только по книгам, но вот нарождение западной, а точнее американской сказки я самолично наблюдал на рубеже шестидесятых в глубочайшей провинции, откуда Кокчетав смотрелся солидным столичным городом, и наблюдал притом в социальных низах, безупречно далеких от разлагающей столичной культуры. Однако и эта святая простота не жила без возвышающих обманов: для высоких, патетических переживаний — мы русские, мы советские, мы самые крутые; немцы — фашисты, но мы им вломили, французы, англичане — да есть ли они вообще?.. Единственный заслуживающий внимания народ — американцы, наглецы, которые всюду суют свой нос, но, в сущности, трусы (любую деревушку два часа бомбят прежде чем сунуться) и дурачье: один американец засунул в анус палец и думает, что он заводит патефон. Бытовая же красота, ощущение собственной крутости обеспечивались в основном блатной романтикой: фиксы желтого металла, насаженные на здоровые зубы, финки за подвернутым кирзовым голенищем, размытые наколки и душераздирающие романсы, повествующие о том, как отец-прокурор приговорил к расстрелу собственного, им же когда-то позабытого-позаброшенного сына…
«А Гарри, он сражался за двоих, он знал, что ему Мери изменила», «Дочь рудокопа, Джанель, вся извиваясь, как змей, с шофером Гарри без слов танцует танго цветов», — все это было и в те кристальные времена, но — без малейшего низкопоклонства, извечная бесхитростная музыка иностранных имен, так пленяющая слух в поэзах Северянина: «принцесса Юния де Виантро». Но вот когда миллионы юношей и девушек переименовывают лимонад в кока-колу, пляску святого Витта в рок, жевательную «серу» в чингвам, а улицу Ленина в Бродвей, тут же сокращенный до ласковой фамильярности Брода (хотя, казалось бы, в огне Брода нет): ходят все по Броду и жуют чингвам, и бара-бара-барают стильных дам, — здесь уже явственно зазвучала современная американская мечта…
Вплоть до таких, скажем, нюансов: в ресторане (где ни рассказчик, ни слушатели никогда не были, — до ближайшего ресторана верст этак сто пятьдесят) какой-то распоясавшийся негр (до ближайшего негра верст этак тысячи три) начал тащить девушку танцевать, а ее парень вступиться не смел — как же, мол, дружба народов и всякое такое, — но тут встает благородный незнакомец и ка-ак врежет!.. Негр, естественно, улетает под стол, а избавитель покровительственно разъясняет: «Мы их в Америке вот так и учим». Заимствовать так заимствовать. Такая вот всемирная отзывчивость русского человека.
Читать дальше