Боже мой! Это месье Мину! Гроза всей школы… Монтерлановская осанка, негнущаяся нога и грохочущая по каменному полу подкованная железом палка. Во что он превратился! Право, иногда стоит умереть пораньше из простого человеколюбия…
– Четырнадцать по латыни, – механически повторяет старый учитель.
Насколько я понимаю, Альфонс нарочно вытащил его из богадельни и привез сюда, чтобы у меня на похоронах, кроме собратьев по торговому цеху Экса, присутствовал свидетель моих блестящих успехов в науках, которые, пойди я по материнским стопам, открыли бы мне дорогу в университет. Не могу передать, до чего меня тронуло такое отношение. Для Альфонса мои возможности не исчерпывались витринами и картинами. Он принимал в расчет потенциальные пути, на которые я не осмелился ступить. Сегодня все шоры спали: робость, лень, страх потерять свободу, – и неосуществленное будущее уравнивается в правах с настоящим. Вряд ли кто-нибудь понял порыв Альфонса, но мне он от этого еще дороже.
– Это надолго? – забеспокоился месье Мину.
– Ему так приятно, что вы пришли. Он так часто вас вспоминал.
– Тише вы! – шипит на Альфонса соседка.
– Я близкий родственник, – возражает он.
Из того, что он шепчет на ухо месье Мину, я понимаю, что он регулярно навешает инвалида и держит его в курсе поэтической жизни города. Когда-то именно Мину, с которым Альфонс познакомился в школе, на родительских собраниях, ввел его в Комитет друзей Ламартина. Благодаря ему он может, предъявляя визитку, гордо представляться пациенткам и служащим водолечебницы: «От меня отказались родители, зато я признан общественно полезным».
Постепенно в часовне установилась тишина, только нет-нет да поскрипывали сиденья и щелкали замочки дамских сумочек. Люсьен обернулся и считает, сколько народу пришло почтить память его отца. На руке у него мои часы, которые я оставил в трейлере, в ящике ночного столика. Затвердевший от долгой носки ремешок не мог держаться на тоненьком запястье, и Люсьен проделал новые дырочки.
– Господи всемогущий! – дребезжащим голосом заговорил кюре. Микрофон усиливал примерно один слог из пяти. – Мы собрались сегодня в Твоем храме, чтобы помолиться об упокоении души рабы Твоей Маргерит Шевийя, принявшей христианскую кончину, причастившись Святых Даров. Мне приятно видеть, что так много людей провожает в последний путь эту женщину, которая, насколько мне известно, была одинокой и умерла в больнице.
Аудитория изумленно замерла, потом по рядам пополз ропот. Певчий, заподозрив неладное, заглянул в записи кюре и с перекошенной физиономией возбужденно зашептал ему в ухо:
– Мадам Шевийя – это в Вилларше в пять часов!
– Хорошо, я буду говорить громче, – смиренно вздохнув, ответил аббат Кутан и продолжал: – Она всю жизнь была труженицей, сначала работала в деревне, затем перебралась в Экс-ле-Бен и от простой прачки дослужилась до технической сотрудницы мэрии. У Маргерит Шевийя было трое детей и шестеро внуков, и, казалось бы, она заслужила спокойную старость в кругу заботливых близких. Однако же ей пришлось доживать последние годы в монастырском приюте Мон-Репо вплоть до того несчастного дня, когда она упала и сломала шейку бедра. Господу помолимся!
Фабьена и отец переглянулись, не зная, как реагировать. Певчий повернулся к ним и бессильно развел руками, далеко вылезавшими из рукавов слишком короткого ему стихаря.
– Благодать Господа нашего да пребудет с вами! – возгласил кюре, трепеща всем своим щуплым тельцем.
– И со духом твоим! – пропела в ответ одна только Жанна-Мари Дюмонсель, страшно обрадованная тем, что память одного из рода Лормо омрачит событие не менее курьезное, чем коровий пук.
– Каждый, кто хочет сказать несколько слов о покойной…
– Да это не она! – закричали со всех сторон сразу и замахали руками.
– …может выйти и сделать это по окончании службы.
Кюре снова нажимает клавишу магнитофона. Одиль с ничуть не пострадавшим пылом выводит «Господи, помилуй». Из третьего ряда слышен сдавленный хохот – братья Дюмонсель сидят с багровыми лицами, судорожно сцепив руки, стиснув зубы и глядя в пол. Я сам еле сдерживаюсь, чтобы не изойти волнами заразительного смеха. Ошибка старого кюре сбила с моих приятелей благопристойную печаль и воскресила память о наших школьных шкодах. Жан-Ми про себя вспоминает самые дурацкие шуточки, а кое-что шепчет вслух братьям, те добавляют что могут. Вот это самое подходящее настроение для данного момента. Я погружаюсь в стародавнее веселье, как в мягкую пуховую перину; мне тепло, уютно и спокойно, как в детстве, когда по утрам в Пьеррэ я нежился в постельке и сквозь сон ощущал знакомые звуки и запахи – на кухне для меня готовился завтрак. Чего только мы не откалывали: взять хоть хлопушечный концерт в церкви или переполох среди курортниц, когда мы вылили в целебный источник флакон текилы…
Читать дальше



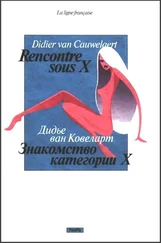
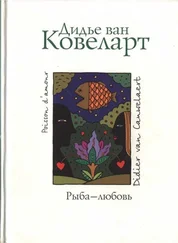




![Дидье Ковелер - Время остановится в 12:05 [litres]](/books/396823/dide-koveler-vremya-ostanovitsya-v-12-05-litres-thumb.webp)

