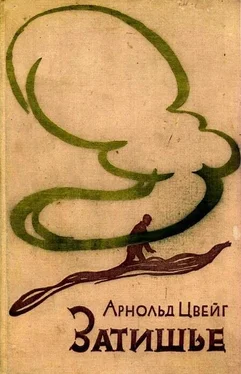Я все еще вижу его маленькие усики под носом и маловыразительные, но не злые глаза. Почему же меня вдруг охватило такое негодование? Разве он не был добр ко мне? Разве он не освободил меня на день от работы и не дал мне этим возможности написать домой, объяснить моей молодой жене, почему она напрасно ждала меня на вокзале, если только она, так же как я, восторженно поверила обещанию подполковника Винхарта.
Две-три недели назад я, вероятно, был бы благодарен за эту особую льготу; я принял бы ее как нечто должное. Но в это утро, после вчерашних переживаний, после ночи в карауле, я прежде всего почувствовал: если бы не мои очки и не мой интеллигентный лоб, этот врач, призванный оказывать помощь, отослал бы меня, безвестного нестроевого солдата, обратно в казарму, несмотря на переутомление, повышенную температуру и расстройство нервов. При этом он исходил бы не из того, что необходимо напрячь все силы для достижения определенной цели сегодняшнего дня. Такой цели не существовало, но, если бы она и была, он мыслил слишком упрощенно, чтобы понять ее! А к нашему сознанию взывали лишь в тех случаях, когда утрачивали свое действие все другие хитроумные средства поощрения и движущие силы, например приказ, угроза расстрела, обещание отпуска и повышение в чине. Мне открылось вдруг, что этот врач совершенно по-разному относится к рабочему и ко мне, человеку одного с ним класса. Говоря с рабочим, он выпячивает челюсть, неумолимую челюсть надсмотрщика. Ко мне, человеку своего класса, он проявляет разумное отношение, даже некоторую человечность. Он полагает, что я принадлежу к правящей касте. И все же он ошибается. Со вчерашнего вечера, с сегодняшней ночи — он глубоко ошибается. Я начал разбираться в механизме, который перемалывал нас, а это первая предпосылка спасения. Теперь я хотел быть тем, во что превратил меня господин Янш: рядовым солдатом-нестроевиком. Единственным моим прибежищем были мои товарищи. Я постиг это не рассудком, понимаете ли, я постиг это инстинктом. Нечто во мне, если можно так выразиться, поняло все и извлекло безошибочные выводы; так пьяный или человек, в ужасе спасающийся от врагов, чутьем берет правильное направление. Отныне всякая попытка изолировать меня от товарищей оказалась бы тщетной. Я принадлежал к их классу, я был рядовым солдатом, пролетарием армии, притом пролетарием по убеждению и без всяких оговорок.
И вот, поблагодарив доктора за доброе отношение, я забрал из барака книги, бумагу для писем и курево (мои сигары и сигареты я роздал в предвидении удовольствий, ожидавших меня дома, но у меня оставалось еще несколько штук, взятых в дорогу). И весь этот день после ночного дежурства спал в околотке, только изредка просыпаясь и обмениваясь замечаниями с нашим старым славным Шнеефойхтом, унтер-офицером санитарной службы, на тему о болезнях, о здоровье и лечении простуды. После обеда Шнеефойхт довел до моего сведения, что канцелярия очень удивлена моим «трюком» и что мне, вероятно, завтра преподнесут наряд в ущелье Орн. Я пожал плечами. Ничего приятнее мои враги и придумать не могли.
После нанесенного мне поражения я, возможно, не нашел бы в себе силы терпеть уколы и насмешки по моему адресу со стороны солдат или унтер-офицеров. А в ущелье Орн никто не спросит, по какой причине я попал в столь неприятный наряд, Каждый норовит оттуда удрать, очутиться у себя в лагере, где чувствуешь локоть соседа. Орнское ущелье? В то время это была для меня новая местность. Я не прочь был познакомиться с ней и даже радовался этому; я не знал, что встречусь там со школьным товарищем лейтенантом Шанцом, а через несколько недель прощусь с ним навеки, ибо он погибнет.
В тот тихий дождливый день, который я провел в околотке, когда с толевых крыш, плескаясь о стекла окон, текла чистая вода, а я, успокоившись, озирал длинные вереницы нестроевиков, закутанных в серые и бурые плащ-палатки, точно в короткие монашеские рясы, Шнеефойхт рассказал мне новость, которой я от души порадовался: положение Глинского пошатнулось! Да, все его изощренные интриги, его лобовые атаки на своих предшественников, подлое обращение с солдатами и ефрейторами, наглый начальственный тон по отношению к другим унтер-офицерам и подхалимство перед Грасником, этим Пане фон Вране, — все это не принесло ему пользы, а если и принесло, то ненадолго. Явился новый фельдфебель, настоящий, кадровый. Он получил назначение из штаба батальона, он вскоре прибудет. Почтальон Берент уже знает его биографию вдоль и поперек. Его фамилия Пфунд, родом он из Меца, где у него жена и дети. Он большой крикун, далеко не такой мерзавец, как Глинский, которого ни один человек добром не помянет. Смотрите-ка, думал я, господин Глинский не вечен, и ему тоже поставлен предел, как всему земному. (Да, да, Глинский — незаметное колесико в механизме тыловой снабженческой инспекции пятого округа Лонгви — исчез, и с тех пор никто его не видел.) Новый человек будет для меня неисписанным листом, но и я для него тоже. Да сгинет Глинский!
Читать дальше