— Ты хочешь сказать, что в Бостоне мало чернокожих? — уточнила мать Сьюзен Трейлор, которой Кинтана по возвращении в Малибу рассказывала о своих впечатлениях.
— Нет, — уверенно сказала Кинтана. — Я хочу сказать, что он нецветной.
В эту поездку она научилась заказывать тройную порцию бараньих отбивных в номер.
В эту поездку она научилась говорить официанту в баре, чтобы безалкогольный коктейль «Ширли Темпл» записали на счет ее номера.
Если машина или интервьюер почему-либо не появлялись в назначенный час, она точно знала, что делать: свериться с расписанием и «позвонить Уэнди» — руководителю рекламной службы издательства «Саймон и Шустер». Она знала, в каких книжных магазинах продажи влияют на листы бестселлеров, а в каких нет, знала имена оптовых покупателей, знала, что такое «гримуборная», знала, чем занимаются литературные агенты. Про литературных агентов она узнала года в четыре, когда меня в очередной раз подвела обещавшая прийти домработница и пришлось взять ее с собой на переговоры в литературное агентство «Уильям Моррис» в Беверли-Хиллз. Я провела инструктаж, объяснив, что от переговоров будет зависеть, сколько мама получит денег, без которых не закажешь тройные порции бараньих отбивных в номер, поэтому важно: а) не перебивать; б) не спрашивать каждую минуту, когда закончится. Инструктаж, как выяснилось, был излишен. Переговоры так ее захватили, что она ни разу не перебила. От воды, когда предложили, не отказалась, самостоятельно справилась с тяжелым хрустальным бокалом, молча и внимательно слушала. Только под конец задала моему агенту вопрос, который, по всей видимости, мучил ее все это время: «Ну а деньги вы маме когда заплатите?»
Когда она вела себя не по возрасту, мы сами-то помнили, сколько ей лет на самом деле?
Коробка с надписью «Всячина» так и лежит у меня в шкафу, разрисованная ее каракулями.
18
Мне редко доводилось встречать людей, которые считали бы себя хорошими родителями. Для таких мерилом успеха чаще всего служат вещи, определяющие (в первую очередь их собственное) положение в обществе: диплом Стэнфордского университета, Гарвардская бизнес-школа, летняя практика в престижной адвокатской конторе. Те же, кто менее склонен превозносить свои родительские заслуги (иными словами, большинство из нас), с утра до ночи, как четки, перебирают в уме свои неудачи, недосмотры, просчеты и упущения. Само понятие «хороший родитель» претерпело значительные изменения: раньше хорошими называли тех, кому удавалось привить ребенку стремление к самостоятельной (то есть взрослой) жизни, кто помогал сыну или дочери встать на ноги — а затем отпускал. Если сын или дочь изъявляли желание скатиться на своем новеньком велосипеде с самого крутого спуска в округе, им могли для проформы напомнить, что самый крутой спуск в округе оканчивается оживленным перекрестком, но окончательное решение оставалось за ними: так культивировалась самостоятельность. Если сын или дочь затевали что-нибудь заведомо безрассудное, их могли предостеречь, но не отговаривать.
Мое детство пришлось на годы Второй мировой войны, когда в силу обстоятельств дети оказались предоставлены сами себе еще больше, чем в обычное время. Мой отец был офицером финансовой службы корпуса армейской авиации, и в первые годы войны мы с матерью и братом дважды снимались с места и переезжали вслед за ним сначала из форта Льюис в Такоме в Университет Дюка в Дюраме, а затем из Университета Дюка в Дюраме в Петерсон-Филд в Колорадо-Спрингс. Не скажу, что мое детство было тяжелым, но, учитывая тесноту и отсутствие порядка, характерные для жизни вблизи американских военных баз в 1942–1943 годах (результат перемещения огромного количества семей военных), совсем безоблачным я бы его тоже не назвала. В Такоме по газетному объявлению нам удалось снять «гостевой домик», который на поверку оказался всего лишь комнатой, правда, большой и с отдельным входом. В Дюраме мы вновь ютились вчетвером в одной комнате — она была меньше, чем в Такоме, и без отдельного входа, зато в доме баптистского проповедника. Эту комнату в Дюраме мать сняла с «правом пользования кухней», что для меня означало возможность изредка лакомиться яблочным повидлом, которое готовила жена проповедника. В Колорадо-Спрингс мы впервые поселились в настоящем одноэтажном панельном доме с четырьмя комнатами рядом с психиатрической клиникой, но вещи не распаковывали. «Какой смысл, — говорила мать. — Распакуемся — а завтра новое предписание». Про таинственное понятие «предписание» я знала только одно: его исполняют.
Читать дальше





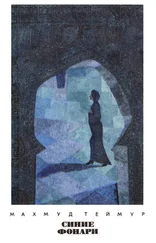
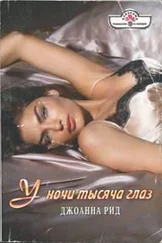



![Джоан Дидион - Год магического мышления [litres с оптимизированной обложкой]](/books/433601/dzhoan-didion-god-magicheskogo-myshleniya-litres-s-op-thumb.webp)
