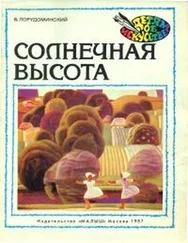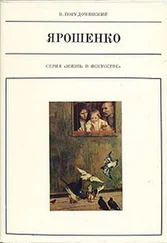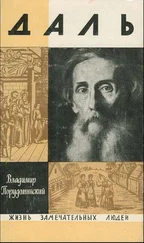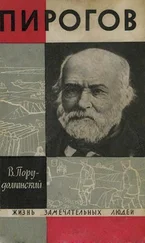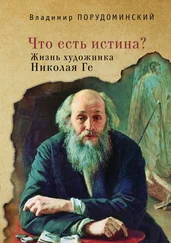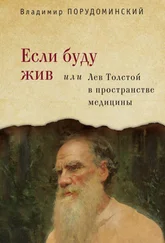Жили, не разлучаясь, до старости, в одном доме, можно сказать — под одной кровлей, если оба были в Москве, почти непременно виделись каждый день. Однажды сложилось так, что Алик должен был обменять квартиру, я смириться с этим не мог, недомогал физически от одной мысли, что окажемся в отдалении друг от друга: на Арбат или на Остоженку в выпавшие свободными полчаса не забежишь. Возвращаясь домой, смотрел на его окна и заранее тосковал, что в них будет гореть не его свет. Алик сумел получить другую квартиру в нашем же доме. Когда я уехал, он писал мне, что по вечерам старается возвращаться домой так, чтобы не проходить мимо моих пустых окон. Он понимал, что я вряд ли что мог изменить в своей судьбе, но рассудительно принять мою судьбу, как она сложилась, похоже, был не в силах. Мы не говорили об этом, но я знаю, что он находил для меня другие варианты. Наверно, он так и не простил меня до конца. Наши встречи — два-три раза в год (по большей части он приезжал ко мне), длинные письма и короткие телефонные разговоры (разговаривать по телефону Алик не любил) можно обозначить известными словами классика как «вещественный знак невещественных отношений»: несмотря на разлуку каждый из нас пристально и внимательно, главное же — с еще большей, чем когда-либо, раздираемой разлукой любовью исследовал и уяснял, что происходит с другим, — вот на чем всё между нами продолжало держаться. Недавно я прочитал то, что и сам давно знал: люди — биографы друг друга. За долгую жизнь мы с Аликом не успели друг другу надоесть и продолжали воодушевленно писать один биографию другого. Но в наших нечастых встречах уже таился надрыв, о котором мы оба молчали, — их воздух напоялся чувством неизбежного конечного предела. Из них ушло привычное пренебрежение к неизбежному. Они были слишком желанными и необходимыми, чтобы не стать считанными. В последний свой приезд он вдруг произнес то, что оба таили: «Знаешь, а ведь нам, может быть, осталось увидеться лишь несколько раз». Мы виделись еще два раза: я ездил к нему, уже безнадежно больному. В третий раз я полетел его хоронить.
До похорон оставалось четыре с половиной месяца, когда он решил широко и серьезно отметить свой юбилей. Позвонил: «На похороны можешь не приезжать, а на юбилей приезжай непременно». Юбилей не обернулся репетицией похорон. Цветы, которые нанесли люди в Дом ученых (народу набилось столько, что, к удивлению администрации, пришлось отворить вход на балкон), дышали наступающей весной. Алик был энергичен, весел, много пил, мыслью и чувством обращен в прожитую жизнь, а не в грядущее небытие (он был убежден, что в — небытие).
Во второй раз я повез ему рукопись книги о Толстом. Эту книгу мы с ним давно задумали: «Лев Толстой в пространстве медицины». Между собой мы именовали ее интегративная биография. Нам хотелось сопрячь в едином тексте физическое, психическое, творческое. Алик с юных лет энергично, как всё делал, любил Толстого. Это тоже сильно нас роднило. Чувство, которое связывало нас с Толстым, звало не только читать, постигать, усваивать им созданное, но — постоянно беседовать с ним, спрашивать совета, искать встреч и мечтать о них, думать о нем, как думаешь не о властителе дум, не о великом художнике, не об учителе, а о своем, близком человеке, понятном и непонятном, как бывают понятны и непонятны близкие люди, как о близком человеке, постоянно тебе, и только тебе, открывающемся и что-то открывающем. Конечно, при всем том отношение к Толстому у нас во многом было разное, мы немало спорили, в отношении к нему, кроме того общего, что нас объединяло, являли себя в полной мере и личные особенности, черты личности каждого из нас. Вывод Толстого, что без «гипотезы Бога» ничего не мог бы сделать доброго, Алик принять так и не захотел, зато толстовское «Мне кажется, что мир кончится, если я остановлюсь» — это было совершенно его.
Он вывез меня (мало выезжавшего и мало выездного) в круиз по Средиземному морю (любовь к кораблям в годы зрелости и старости осталась прежней, юной). Часами стояли на верхней палубе на самом носу корабля, задыхаясь от встречного ветра и встречного счастья, всё высматривали что-то впереди, хотя впереди было только море и небо.
В Марокко, на автобусной станции, среди добела запыленных автобусов, разглядели один, неказистый, видно по всему отслуживший долгие годы, — на борту цветастый знак туристской фирмы, ниже адрес: Танжер, ул. Толстого, 2. Остановились посреди пыльной площади и засмеялись от радости.
Читать дальше