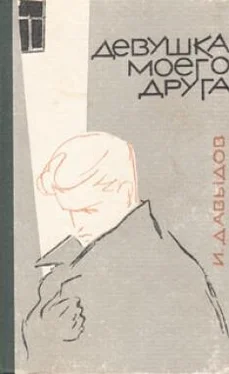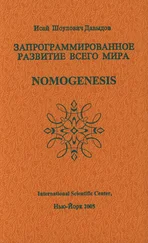Филатыч недоверчиво, исподлобья смотрит на меня и произносит:
— Ну, ладно! Зайду позднее...
И, ссутулившись, идет к калитке.
Я смотрю на его понурую фигуру, и мне становится невыносимо жалко этого старика. И хотя я знаю, что дядя Семен болен, что он отдал этому несчастному дому в Малаховке почти всю жизнь, мне почему-то совсем не жалко его. Я чувствую, что сейчас мне будет просто противно на него смотреть, противно жить в его доме.
Я долго стою возле крыльца и думаю. Мне жалко маму. Она могла бы прожить здесь еще целых четыре дня. Но в конце концов есть вещи более важные. Жить здесь больше нельзя. Противно. И приезжать сюда больше незачем.
Я вхожу в дом и решительно говорю маме:
— Собирай вещи! Мы уезжаем в Москву!
— Почему?
Неужели она не понимает? Я удивленно гляжу на маму. Она же всегда понимала такие вещи...
Видимо, взгляд у меня очень выразительный, потому что мама молча начинает собираться. Я тоже молча укладываю свой чемодан и вдруг вспоминаю, что в кармане у меня телеграмма дяде Семену. Я вынимаю ее и стучу в закрытую дверь спальни, куда ушел дядя Семен.
— Дядя Семен, тебе телеграмма.
Из спальни не доносится ни звука.
Входить туда мне не хочется. Я кладу телеграмму на туалетный столик, так, чтобы она сразу была заметна, и снова говорю закрытой двери спальни:
— Я положил ее возле зеркала.
А потом снова укладываю свой чемодан.
Через полчаса мы с мамой выходим, даже не простившись с дядей Семеном, и уже на улице, в десяти шагах от калитки, встречаем тетю Олю. Она недоуменно смотрит на нас и растерянно опускает на землю сумки.
— Что случилось?
Я коротко рассказываю.
— Хорошо, я провожу вас, — говорит тетя Оля.
Я беру ее сумки, отношу в дом и оставляю на кухне.
Я слышу, как за стеной ходит из угла в угол дядя Семен, чиркает спичками и что-то бормочет. Я понимаю, что ему обидно, что он переживает, может быть, даже жалеет. Но мне все равно не хочется его теперь видеть, не хочется с ним говорить.
По дороге к станции тетя Оля жалуется, что с дядей Семеном становится все труднее и труднее, что строительство дома стало уже не его делом, а его болезнью, что он на все в жизни смотрит теперь только с одной точки зрения — выгодно или невыгодно это для строительства дома.
— ‘Проклятый дом... — Тетя Оля вздыхает. — Лучше бы его и не строить... Жили бы до сих пор в Молочном.переулке и были бы счастливы.
Я вспоминаю, что когда-то очень давно, еще задолго до войны, почти то же самое говорил мне Майк. Я вспоминаю,
каким веселым, простым, ласковым был дядя Семен, когда жил в Молочном переулке. Я гляжу на
тетю Олю, которая когда-то казалась мне большой и красивой, а сейчас кажется маленькой, старой и очень усталой женщиной, и мне становится так же невыносимо
жалко ее, как совсем недавно было жалко Филатыча. Я вдруг понимаю, что и его, и ее, и самого дядю Семена согнула, преждевременно состарила какая-то страшная, жестокая сила, с которой они не умеют бороться и от которой не могут убежать. И эта сила олицетворяется для меня сейчас почему-то красным, разъяренным лицом дяди Семена и его вытаращенными глазами.
На перроне тетя Оля просит:
— Вы все-таки приезжайте... К нам и так все стали редко ездить...
— Приезжай лучше ты к нам, — отвечаю я. — И ты и Кира... А мы... — Я опускаю глаза. — Не знаю,
как мама, а я, наверно, к вам больше не приеду... Мне неприятно...
— Я понимаю.— Тетя Оля вздыхает. — Не ты один. Только ты говоришь, а другие молча... Мне это страшно тяжело... Я привыкла, что у меня всегда много гостей.
Подходит электричка. Уже входя в нее, я вдруг вспоминаю о телеграмме и говорю:
— Тетя Оля,' там возле зеркала телеграмма...
— А что в ней? — Тетя Оля глядит на меня испуганно.
— Не знаю. Она вам.
Поезд отходит.
Мы с мамой устраиваемся в полупустом вагоне и долго смотрим в окно.
Я думаю о дяде Семене и понимаю, что мама думает о нем. Потом я спрашиваю у нее:
— Мам, как ты думаешь, почему так получилось? Ведь он же был раньше веселым, добрым...
— Знаешь, — тихо, задумчиво произносит мама, — мне сейчас кажется, это у него с детства... Когда он был маленьким, он хотел играть только своими игрушками.
Он не признавал общих... Нас было четверо... Мы старались, чтобы у нас все было общее. Мы бедно жили.
На отдельное не хватало. Только он всегда выделял свою долю... Он, знаешь, часто болел. И поэтому ему как-то прощали, уступали. Даже дарили отдельные игрушки. А потом он окреп, но ради игрушек и пряников часто притворялся больным. Мы смеялись над ним... И только! А наверно, надо было не только смеяться...
Читать дальше