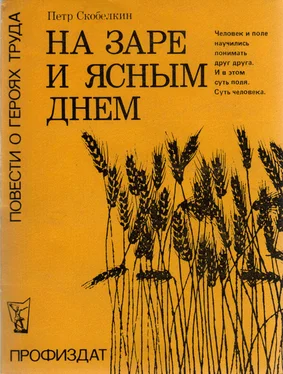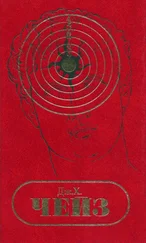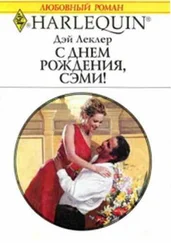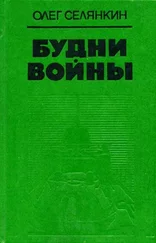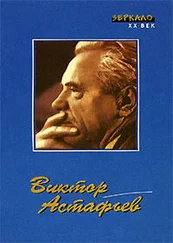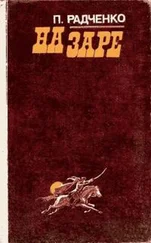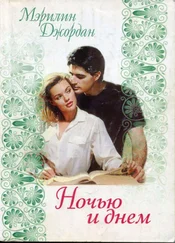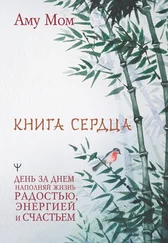«Приказ№ 126 от 27/VII-33
§ 1
Нормы расходования хлеба производить из расчета [7] Месячная норма.
: адмтехперсоналу, основным рабочим и сезонным рабочим муки —16 кг; хлебом — 24 кг; служащим: муки — 8 кг; хлебом — 12 кг. Иждивенцам муки — 8 кг, хлебом — 12 кг; детям: муки — 4 кг, хлебом — 6 кг.
…Для выполняющих нормы 800 гр [8] Суточная норма.
, перевыполняющим нормы в процентном соотношении паек увеличивается за каждые 10 % на 80 гр. хлеба и невыполняющим нормы, наоборот, получается снижение по 80 гр. на каждые 10 %».
1934 год. Весна. Снова острая нехватка продовольствия. И в дополнение ко всем бедам разразилась эпидемия тифа.
«Приказ№ 19 от 11/II-34 г.
§ 1
Факты последних дней показали, что по совхозу и особенно среди состава центральной усадьбы создавалась угроза широкого распространения эпидемии тифа.
Назначаю чрезвычайную тройку по борьбе с тифом под председательством заведующего отделом кадров Данилова и членов: Вахлина, Макаренкова, Рыкова. Чрезвычайной тройке в суточный срок разработать план практических мероприятий, предусмотренных проведением декады для борьбы с тифом.
§ 2
Секретарям партячеек, комсомольских ячеек и представителям ЧК развернуть широкую разъяснительную работу, мобилизуя рабочих и служащих и членов их семей на полное и быстрое выполнение мероприятий, намеченных тройкой.
Врио дир. Разноглядов,
нач. политотдела Булыгин».
Не успели ликвидировать тиф, как новая напасть навалилась. В народе невесело вспоминали старую поговорку: «Беда одна не приходит».
1934 год. Начало осени. 9 сентября над Миассом промчалась снежная буря. Вся пшеница оказалась под снегом.
Не хватало техники. Рядом с американскими «катерпиллерами», «оливерами» и «маккормиками» натужно тянули бороны коровы.
Американская техника не выдерживала сибирского бездорожья: у «оливеров», например, постоянно летели коленвалы. Моторы «фордзонов» на комбайнах «Коммунар» явно не соответствовали условиям эксплуатации. По утрам в степи выпадали обильные росы. Они обволакивали влагой бобины, и моторы не заводились. Не заводились и все тут! И так было до тех пор, пока один «рационализатор» не догадался спрятать на ночь бобину себе в постель под подушку.
Трудные годы… Даже удачи оборачивались для начинающего жить хозяйства несчастьем.
Случилось так, когда в 1932 году выросли сильные хлеба, до 25–30 центнеров с гектара, а убрать их было невозможно: не мог тянуть слабосильный «Фордзон» такую мощную массу пшеницы. А пшеницы этой было ни много ни мало, а больше 22 тысяч гектаров. Площадь даже по современным масштабам и новой технике для одного хозяйства солидная.
Но хлеб надо убирать, сдавать государству — страна остро нуждалась в продовольствии. Чем убирать? Как убирать?
Вспоминает Степан Андреевич Дерябин, тот самый директор «Большевика», чья подпись стоит под первыми приказами по совхозу.
— Мне тогда было всего 24 года. До этого ни дня не был хозяйственником, понятия не имел. Я — комсомольский работник, секретарь Шумихинского райкома комсомола. Правда, тогда я уже был членом партии, но всего четыре года.
А хозяйство огромное — 72 тысячи гектаров всех угодий. Можете себе представить, из одного конца в другой около ста километров. На лошадке сутки добираться надо. А телефона не было. И вот такой могучий хлеб — в рожь заедешь, лошадь не видно.
А мы стоим — нечем убирать. Сдачи хлеба нет. Приезжает уполномоченный: «Куда дел хлеб?». Объясняем. Телеграмма из области: «В случае невыполнения плана хлебоотдачи будете преданы суду…».
ЧТО ДЕЛАТЬ, УМА НЕ ПРИЛОЖИМ
Обратились за помощью к соседям, к колхозникам. Прислали они нам 500 лобогреек. Это около 1000 лошадей (на лобогрейку две лошади и столько же работников). На каждой лобогрейке по двое — «лобогрейщик» (машинист по-новому) и ездовой.
Так ведь всю эту армию надо расселить, обеспечить работой и накормить. Вот и крутились. Валили хлеб, наша молодежь (а у нас одних комсомольцев только в совхозе было тогда 275 человек) вязала его в снопы, укладывала в бабки и суслоны. А потом свозили на гумно молотить. Молотилочки наши были слабомощные, с узкой горловиной — «БДО-34». И все же худо-бедно управились. Работали, конечно, и днем и ночью.
Коля Комельков, секретарь комитета комсомола, и домой не появлялся, так на току прикорнет чуток и снова на ногах.
СУРОВОЕ ВРЕМЯ
…Сама обстановка на селе в это время диктовала неотвратимый лозунг: кто не с нами, тот против нас. И это надо понять. Подняло голову недобитое кулачье. Случалось, утром ни одного трактора не заведешь: то в цилиндры песку засыплют, то мотор разморозят.
Читать дальше