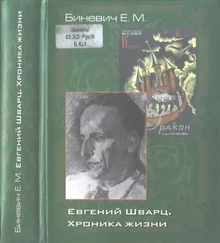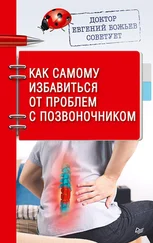Рядом сидел какой-то рабочий; простое лицо, широкие плечи, добрый и властный взгляд; покачивался правый носок его сапога. Сережа искал у сидящего такое же напряжение и удивлялся его спокойствию. Они раза два встретились глазами — смотрел рабочий прямо, остро и молодцевато. Сережа не выдерживал прямых взглядов. Он стеснялся тех, кто читал в его душе.
К рабочему подошел невысокий, коренастый и такой же сильный.
— Спрашивают: горит? Ну что ж, «лампада» горит. Мы что, аль газ в квартиры сами подаем?
Первый усмехнулся:
— А ты не серчай, душа из меня вон. Пыль из тебя потом выбьют. Что? Блудлив, как кошка, а труслив, как заяц?
— Да я без обиды.
— Ну и поддаваться не всегда в пользу. Вот глина, душа из меня вон, — докель будем куски сами бить и на носилках таскать? Одни обещания! Геология, мать их, голубая осина. Вот здесь и жми на все лопатки, а своего добейся.
Сережа слушал разговор о трансформаторах, о подвозе труб, о каких-то грязевых насосах — и он понял, что люди эти с буровой.
Появилась секретарша:
— Вас просят, товарищ… — И рабочий, прямо-таки верзила, встал.
Увидав Сережу, секретарша неопределенно пожала плечами.
Сережа проводил глазами широкую брезентовую спину.
«Настоящие джеклондоновские люди. А вот другой мелковат, и в разговоре и в движениях юлит — от какого-то блатного мира».
Встал, прошелся еще по коридору. Посмотрел на часы. Уже пять! Вышел на улицу. «Пожалуй, поброжу по стройке, все равно там раньше получаса не кончится».
А пришел через полчаса — секретарша куда-то собиралась.
— Что ж вы ушли? Гуляли? Вот и прогуляли. Секретарь уехала обедать, и не знаю, вернется ли. Меня, например, отпустила. Хотите — ждите, как душе угодно; боюсь, что уехала на буровую.
И вышел Сережа Балашов не солоно хлебавши. А на улице смеркалось. Далеко за стройкой выли собаки натуженно и озлобленно; может быть, волки с поля подошли.
Черная липкая нефть ползет по выцветшей траве, по размытым дождем выбоинам, по обочинам дороги. Черная, с серебристым отливом на солнце. И люди берут ее на палец, размазывают на ладони, нюхают, ощущая приятный, терпкий запах, и добродушно усмехаются: девонская.
Стоит и Кашкин-дед, пузырится:
— Турбобуры?! Какие, эко, турбобуры? С гречневой кашей, что ли, их едят?
Ушел дед на пенсию и куражится.
— Эх, старый. Техника это, дед.
Дед прищурил хитрый глаз, притопнула
Нам не надо скрипку, бубен,
Мы на пузе играть будем.
— Не понимаешь, дед, нового.
А дед свое:
Пузо лопнет — наплевать,
Под рубахой не видать.
Пьян Кашкин-дед — что с ним разговор вести; качается дед, грозится в сторону Андрея Петрова: мол, шалишь, старика не обманешь, друг мой; по России-матушке не один каблук сшиб — и все на промыслах. А этот, Тюлька, вертится, как сопля, никакого понимания.
…Ползет нефть, черная, липкая, с серебристым отливом. И Тюлька, раскрыв рот от удивления, — сколько добра уходит, — смотрит на нее и никак не может прийти в себя.
«Глупое телячье счастье», — усмехается Балабанов. Он не понимал Тюльки, его детской искренности и простодушия. В душе Балабанов считал Тюльку вором, блатягой, относился настороженно, с оглядкой: как волка не корми, все равно в лес убежит. Не понимал он Андрея Петрова, — чего нашел в Тюльке: «душа есть», «сердешный», пока в кармане плохо не лежит… Чудо-чудеса, славный мальчик родился.
Смотрит на Тюльку и Андрей Петров, хитро щурится, знает: после смены Тюлька будет просить «на маленькую» — «не обмыть такое дело просто грех», — а поэтому и дразнит Тюльку:
— Ну вот так, есаул Тюлька… как ты настоящий казак, семиреченский, родной мне по душе, значит, и решил я: буде тебе глину таскать да наверху на ветру стоять: помощником бурового ставлю. Но дело за дело. С «маленькой» покончишь навсегда. Справишься?
И вправду решил Андрей Петров: заслужил работой парень, чего там ждать да гадать, сказал — и баста.
Приятно Тюльке; приятнее, чем водка, Андреевы слова, — ну как же Тюльке не справиться!
Злят Балабанова слова Андрея Петрова. Отошел, в сердцах выругался самыми грязными словами. Недолюбливал он и Андрея Петрова за его широкую натуру, открытость и умение крепко, по-деловому работать. Давненько он его знал. Когда ударили первые фонтаны в Бавлах, Андрей был всего-навсего верховым, а вот смотри — мастер. Как-то быстро он обнаружил умение прокладывать глубокие скважины без всяких аварий; в 1952 году в Бавлах вел самостоятельно всего третью скважину, а достиг небывалой скорости: тысячи метров за месяц. В Бавлах вместе они работали и в Ромашкине вместе, а он, Балабанов, так и не перемахнул этой грани, застрял.
Читать дальше