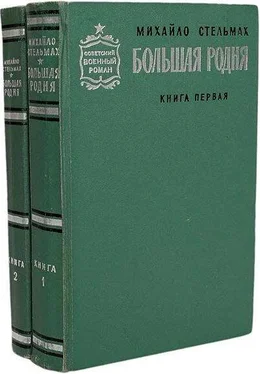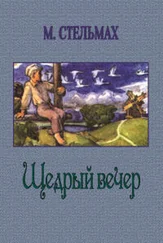Долго не мог встать. Разрывалась голова; обмерзшие пряди волос холодно зазвенели на лбу.
«Где же я?» Свистит пурга, засыпают снега, сковывает мороз. В конце концов встал и со стоном упал назад — закоченелые ноги не слушали его.
«Где же я?»
Наискось нависло над ним старое дерево, зажатое высокими стогами.
«Подожди, да это же хутор Варчуков».
Снова хотел встать, но ноги были как бревна.
«Врете, гады! Если не убили, то не умру просто так».
Боком пополз по снегу, глубоко вспахивая собой сыпучее поле. Задыхался. Снег забивал ноздри, рот, засыпал шею; костенели руки — грел их подмышками и снова полз. Провалился в ров, извиваясь, обрывая ногти, выбирался из него, уже не чувствуя пальцев.
Вырвался из холодного плена и снова полз.
«Врете — не одолеете!»
Конями вылетают ветры, воют, ревут, засыпают снегами.
Не вырвешься из их плена, и занесут заносы, только весной, обгрызенного зверьми (не найдет зверь, мыши обгрызут), отыщет тебя хлебороб по кускам одежды догадается, чье тело нашло приют на его поле…
«Врете — жизнь меня ждет, мать выглядывает. И я приползу к ней».
Снежной насыпью поднялась дорога, доползти до нее, а там и домой недалеко. Отдохнуть немного, дух перевести…
Как тепло становится, брызнуло солнце на черные поля… Какой там черт брызнул! Это мороз его заковывает. Головой в снег, локтем в снег, обе руки под себя, и боком, боком на дорогу, потому что его мать дома выглядывает, Марта надеется на него, ему жить, работать надо… Проклятущие ноги! Кровь течет с нёба.
«Не выплевывать — обледенеет на подбородке»… Больно сдерживает примороженными устами тягучую жидкость и вытягивается на дорогу. Вроде кто-то нависает над ним.
Какой там черт нависает — это мороз хочет сковать его. «Переползай, парень, дорогу — недаром к девушке ходил».
Где-то издалека замычала корова. «Скотина кровь слышит».
— Дмитрий, это ты?
«Ге-ге-ге! Вишь, как подходит. Дмитрием называет».
Голову в снег, плечо в снег, руки под себя — и вперед…
— Дмитрий, сынок!
«Неужели мать? В такое ненастье!»
— Это вы, мама! — хрипит и по знакомому с детства аромату материнских волос, по прикосновенью пальцев к лицу, как может только она дотронуться, он узнает свою наибольшую любовь. — Плохой я, мама, не осудите. И умер бы, так вы у меня есть. — И начинает катиться в безвестность.
Только одна мать знает цену своему дитяти. Только одна мать заглянет в те тайники сердца, которое никому неизвестны. И она уже знает его волю — не надо звать людей. Натруженными большими руками берет подмышки сына и тянет снегами, не чувствуя ни веса, ни усталости…
Боль пронизывает до костей, ходит, перекатывается, сверлит буравами тело; отмерзают темно-русые пряди волос, жидкая красная мазка катится по лицу, а мать хлопочет возле сапог — никак снять не может. Тогда, не спрашивая его, молча берет нож, на живом теле режет голенища. Зашипел и прикусил примороженную губу, когда мать сорвала примерзшие портянки. Ноги начинают разбухать, отекать, раздаваться; четверо глаз со страхом скрещиваются на них. Затягиваются впадины между пальцами, заплывают рыхлым тестом, из глубины которого маленькими глазками белеют ногти.
— Ничего, ничего! — бросается мать в хату, приносит несоленое гусиное сало и им до колен смазывает раздутые бревна ног, после кутает чистым льняным холстом, поит водкой, настоянной на тысячелистнике и девясиле.
— Разве же это люди? Это звери, кулаки, — срывается в стон голос матери.
— А вы же думали… Скажете, что упал с лестницы в амбаре, потерял сознание, обмерз. Чтобы никто… — хрипит.
— Знаю, знаю сынок, — склоняется над ним, как над ребенком, укладывает спать. Белую подушку грязнит сукровица, кричит все тело, печет огонь; парень не может даже пошевелиться, и снова ароматная водка горячит губы и рот…
Несколько дней плевался кровью и без помощи матери не мог повернуться. Днем боль немного уменьшалась, а ночью, чтобы не кричать, зажимал зубами уголок подушки, жадно пил первач.
— Может, в район за врачом поехать?
— Никакого врача. Тогда сам себя изведу… Выздоровею, на живом засохнет! — хрипел простуженной грудью.
Мать сама обстригла голову, чтобы скорее залечилась; синяки начали бледнеть. Больше всего беспокоили ноги — не мог стать.
«Неужели калекой буду? Так и не отблагодарю барчуков!» — Скрипел от злости и бессилия зубами. Самым невыносимым, самым страшным было даже не увечье.
Читать дальше