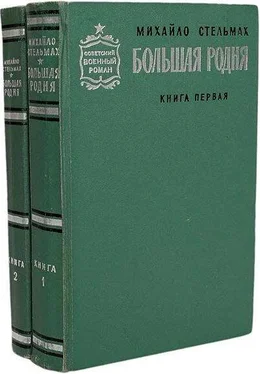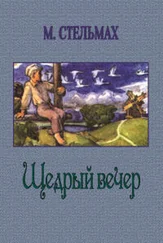— Подожди, Марта.
— Потом, в субботу жди.
Клубятся туманы в долине и непроглядной пеленой скрывают девушку от парня…
Под вечер, сдерживая запененных вороных, прямо с ярмарки, подкатил к его воротам Карп. Натянув вожжи, крепко стоял на бричке, выгнутые дугой ноги по косточки увязли в сене:
— Дмитрий, черт бы тебя побрали! — и сразу же изменил голос, увидев мать.
— Добрый день, тетушка Евдокия, с праздником вас. — Низко кланялся, скрестив руки на животе.
— И тебя с праздником, — строго посмотрела на парня. — Катаешься?
— Как творог в масле, — отшутился. — Катался бы еще лучше, да советская власть тпрру говорит. Даже права голоса лишила. Придется, небось, петухом кукарекать. Пустите Дмитрия со мной.
— Не знаю, он, кажется, собирался к учителю идти, — засомневалась. «Пусть увидит Марту. К добру ли только это?»
— Успеет. Мне главное, чтобы Дмитрий коней осмотрел — он в них лучше доктора разбирается.
— Если есть время, пусть посмотрит.
— Садись, Дмитрий! — крикнул, не спрашивая согласия, сверкнул серыми глазами, и резкие полукруги ресниц порхнули вверх, аж коснувшись широких, с прогалинами, словно прореженных чем-то бровей.
Едва успел парень схватиться за железные перила брички, а Карп уже гикнул, свистнул, стрельнул арапником, и вороные, расплескивая загустевшее болото, вытянулись в неистовом галопе.
Порезанная на пряди, закружила земля. Как живые, чудно отскакивали в сторону хаты, овины; сильный ветер остро врезался в лицо.
— Вье-о, кони, сто чертей вашей матери! — неистовствовал Карп.
Тряслись полные розовые щеки, пушистый чуб опекал оттопыренное ухо, неспокойная кровь заливала тугую шею. В каждом движении Карпа чувствовалась невыработанная сила, злая, полудикая настырность. В крупной руке гадюкой извивалась и отскакивала назад ременная плеть.
Бричка, накреняясь из стороны в сторону и каким-то чудом еще не перевернувшись, влетела в улочку, обсаженную вишняками. Сквозь голые ветви вдали резанул глаза свежей синью большой, под жестью, дом Варчуков, будто втиснутый в выгнутый полукруг леса.
Кони подлетели к дому.
Вольготно живется Сафрону, хоть и отрезал комбед у него в 1920 году тридцать десятин возле Буга.
Если раньше высокая фигура Сафрона черной тенью нависала над селом, с мясом вырывая бедняцкие четвертинки и десятинки, то сейчас он притаился в лесах, богател и разрастался, будто корень, — так, чтобы меньше было видно людскому глазу. Нечего теперь было и думать, чтобы стать хозяином на всю губу: земли не прикупишь, усадеб не поставишь, дворянства — о чем столько думалось — не добьешься.
Только и осталась единственная отрада — сколачивать деньгу. И он сколачивал ее со всей кулаческой хитростью, изобретательностью и скаредностью. Один только лес золотым листьям осыпался в тонкие, но ухватистые пальцы Сафрона. Почти каждую ночь он с Карпом на двух подводах выезжали в чернолесье, и лучшие горделивые ясени со стоном, в последний раз брызгая росой, падали на холодную землю. С их еще живого тела отрезались четырехаршинные шпоны. И плыли они лесными дорогами в большую мастерскую сутулого и всегда покрытого влажным, как переваренные ясеневые поделки, румянцем Ивана Сичкаря. Тот пристально осматривал кряжи, браковал за малейший сучок, а потом средним, туго налитым жиром пальцем, будто играясь, ловко выбрасывал из залосненной мошны золотые пятерки или серебряные рубли — Сафрон бумажек никогда не брал.
— Скоро ты, Сафрон, за один лес серебряный дом выстроишь, — улыбался Сичкарь отвисшей нижней частью лица.
— Золотой! — сердился Сафрон.
— Может, на золотой и не хватит материала, а на серебряный должно хватить. Может, вру? — и мелкие зрачки Сичкаря, как две капли масла, задиристо играли на серых, будто присыпанных пеплом белках. — Свинину же и гусей вагонами возил в Одессу?
— А сколько за те вагоны слупили? А сколько на взятки ушло? — горячился Сафрон. — А как налогами душат тебя?!
— Душат, что спасу нет, — соглашался Сичкарь. — И нет тебе в этой власти никакой поддержки. В революцию Военно-революционный комитет за торговлю к стенке ставил, а теперь патентами обдирают до последней нити. Все власти и власти, а когда же себе что-то в мошну положить? — и сырые, блестящие, как намазанные смальцем губы Сичкаря уже не оттопыривались в улыбке, а злостно выгибались вниз. — Разве бы так нам жить…
— Да, живешь, лишь бы мир не без тебя… Забрали землю, чтоб вас черт еще до вечера забрал…
Читать дальше