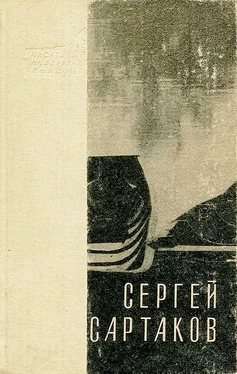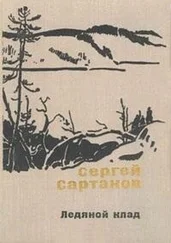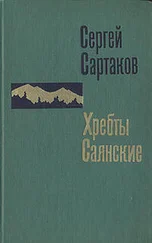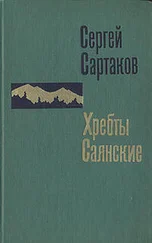Из всех этих слов Ивана Андреича получалось так, что он-то сам Поленьку не любил, а мне почему-то хотелось, чтобы он любил. Но прямо спросить я не мог — такое суровое и торжественное было лицо у Ивана Андреича. Словно бы так: прищурясь, он смотрит в самого себя. Мне вспомнилось, раньше он говорил, что самым драгоценным в его молодости была одна девушка, потом жена, для которой и все реки текли и солнце светило. И я успокоился, я подумал: «Конечно, Поленька стала женой Ивана Андреича, но были, наверно, какие-то препятствия». И еще подумал, что, например, я — так сразу сломал бы любые препятствия.
— Видишь ли, Костя, что такое любовь вообще, рассказать невозможно. Если хватит таланта, способностей у человека, он может рассказать только об одной любви, о своей любви. Говорить о любви другого — это все равно, что выпить глоток вина вместо него и потом спросить: «Скажи, каково оно было на вкус?» Конечно, общие определения существуют. Для учебников психологии или словарей… Но я имею в виду, парень, живое, трепетное чувство, которое у каждого человека бывает только свое. Как тебе объяснить, почему Поленька полюбила меня? Даже себе я этого не могу объяснить. Как передать то, что ей думалось, когда она прибирала в моей комнате, или писала свои записки, или приподымалась у себя на постели — я это слышал, — когда я очень поздно возвращался домой и, чтобы не разбудить никого, осторожно поворачивал ключ в замке, запирая наружную дверь за собой? Как передать, с какими мыслями молча сидела она впотьмах на свой постели — я это угадывал, — сидела до тех пор, пока через неплотно прикрытую дверь моего чуланчика пробивался на кухню свет от свечи? Всего этого мне никак не объяснить. Но одно я знал и понимал: Поленька очень любит меня.
Иван Андреич перестал ходить, как-то тяжело подсел к окну. Там виден еще был дым лесного пожара.
— А я не любил ее.
И мне захотелось подняться, уйти, потому что мне стало очень обидно за Поленьку. Иван Андреич, наверно, понял это по моим глазам. Он тихо покачал головой.
— Но я, парень, не забавлялся ее любовью. Нет в мире ничего подлее правила Печорина: влюбить в себя девушку, а потом ее оттолкнуть. Сделать это с холодным расчетом. Ну, а как назвать, когда такие отношения складываются без всякого расчета? Сами собой. А ты вначале, этого даже не замечаешь. Если же и замечаешь — не вдумываешься глубоко. Кажется, вот у тебя и у нее приятно постучит сердце, и все пройдет. А скорее всего тогда вообще даже ни о чем не думаешь, а просто живешь приподнято, взволнованно.
Тут я прямо-таки закричал:
— Да почему же вы ее не любили?
Он ответил не сразу. Будто примерил сперва: можно ли вообще на это ответить?
— Потому что я любил другую девушку, Костя. Очень сильно любил. Наверное; так, как меня любила Поленька. С нею я познакомился на фабрике. Каторжный труд белошвейки. В девятнадцать лет черные круги под глазами. И страшная жажда жизни, большого дела, большого счастья. Я ходил на фабрику, как говорили тогда, «мутить народ». Выполнял поручение комитета партии и веление своей совести. Часто с фабрики мы уходили с Тамарой вместе. Один раз, помню, попали под дождь и долго стояли в каменных воротах какого-то княжеского особняка, и бронзовые львы скалили на нас свои пасти. Впрочем, не имеет значения, как началось. Это всегда начинается как-то вдруг. И очень трудно сказать: «Станьте моей женой».
Тамара стала моей женой только спустя пять лет. Когда я лежал в госпитале. Поправлялся от ран. Немцы подкосили из пулемета. Первая мировая война. А Тамара была тогда сестрой милосердия. Из госпиталя мы вышли рядом. И потом — тридцать три года вместе. Красная гвардия и Красная Армия. Деникин. Басмачи. Эпидемия сыпняка, оба в тифу. Голодали. Работали. Учились. Институт красной профессуры. И затем экспедиции, экспедиции… Прожил ли бы я эти шестьдесят два года, если бы не Тамара? И сделал ли бы я хотя половину того, что я сделал, если бы не она? Эх, парень…
Иван Андреич отвернулся к окну. Но мне все же было видно, как по щеке у него покатились слезы. Он не смахивал их. Наверно, думал: «Не следует показывать свою слабость».
И я ничего не мог у него спросить, потому что тогда я заставил бы его говорить. Пусть он считает, что я ничего не заметил.
Так мы сидели и молчали. А теплоход стучал дизелями и все шел вперед на север. Переваливал к левому берегу (окна у нас выходили на правый борт), и поэтому все мельче и мельче казались деревья на высоком яру и все шире становилась голубая полоса реки, а белые щиты створов стали вовсе как пятнышки. Только дым лесного пожара никак не убавлялся.
Читать дальше