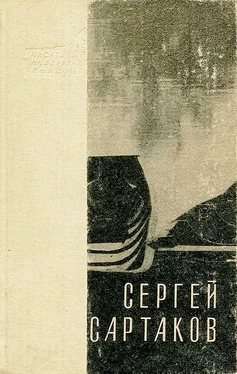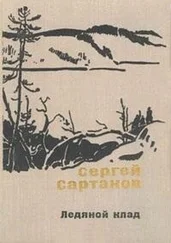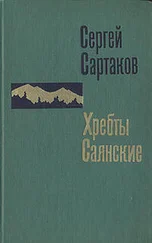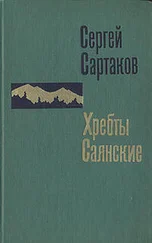— А как же твое комсомольское слово, Барбин? Ты ведь слово давал, что не брал с пассажиров деньги. Забыл?
Нет, не забыл я. Вся душа у меня протестует сказать капитану: тогда я солгал. А подтвердить, что тогда говорил я правду, — значит сознаться: теперь солгал. И надо рассказать начистоту про Шахворостова, себя спасать, а топить товарища. Ну прямо как будто сильным течением несет меня на груду камней, а как ни бейся, куда ни рули, а обязательно на камень напорешься. И вот молчу я, натужно думаю, а время между тем летит вхолостую. Иван Демьяныч постоял, подождал, а потом пошел в рубку.
— Ну, что же, Барбин, ты так ты. Не маленький. Так и запишем.
Я медленно-медленно спустился на палубу. В дальнем конце ее по-прежнему рядом стояли Маша и Леонид. Небо цвело горячей зарей. Белая ночь кончилась. Начинался опять черный день.
Глава десятая
Проработали
Илья снова обозвал меня дураком. На этот раз — круглым. Дескать, нужно было твердо стоять на своем, отказываться — и никаких! Доведи капитан даже до суда это дело — взятку ничем не докажешь. Услуги, подноска вещей. Тогда всех носильщиков нужно судить как взяточников. Эго только один Иван Демьяныч среди других капитанов из себя святого разыгрывает, а сам, поди, тоже у браконьеров рыбку к зиме по дешевке запасает.
Словом, так долго Шахворостов ворчал и ругался, что под конец я обозлился и сам крепко отрезал ему:
— Эх, ты, и за такого подставил я голову!..
Ну, а там еще всякие другие слова. И представьте: сразу Илья просиял. Объявил, что «дурак» — только к слову, а вообще я настоящий товарищ. Так вот хорошая, верная дружба и складывается. Топят друг друга ради спасения шкуры своей только подлецы. А тут и цена-то всему делу чуть больше двух литров. Как раз за такую цену Иуда, дескать, продал Христа и сам потом со стыда повесился на осине.
— Ну ничего, Костя, на сотнягу ты погорел, зато, как Иуда, не повесишься.
И даже дал мне эти деньги взаймы, чтобы я внес их в кассу, как приказал Иван Демьяныч. Дал, подумал и сказал:
— Ладно, вернешь всего полсотни. Но имей в виду, Костя, что, только любя товарища, половину твоей глупости на себя принимаю.
Расстались мы как-то неопределенно. Во всяком случае у меня на душе настоящей радости не было. Что не подвел я товарища — нравилось мне, а что дело с деньгами этими вовсе чистое — в мыслях легко не укладывалось, хотя действительно вроде бы и не краденые деньги и государству от этого убытку нет никакого.
В таких думах я и не заметил, как у Машиной каюты опять очутился. Вот с кем поговорить! Шахворостов, конечно, товарищ мне, Маша — тоже товарищ. А подход ко всему у них разный. Слова Машины ненавязчиво, мягче, глаже, зато и прочнее как-то в душу мне вкладывались, не как слова Ильи — тот свои либо с мылом, либо с песком, а по сути дела, всегда силой вбивал. «Что Маша мне скажет?»
Постучался в дверь. Ответа нет. Еще постучал. И снова не отвечает. Значит, куда-то ушла. Радиорубка тоже заперта. Не хотелось мне думать, вспоминать Леонида, а вспомнил невольно: они все время вместе. Чего же я стучу, ищу Машу? И найду — так рядом с ним. Холодок прополз у меня по спине. Дудки! Хватит мне вертеться здесь у дверей и под окнами, будто и впрямь я испанский кабальеро! Друзей каждый сам себе подбирает и теряет их тоже сам.
Через минуту я в почтовой каюте уже выкрикивал «Стихи о советском паспорте», и через каждые два слова Шура меня останавливала и подсказывала, как прочитать лучше. Но это нисколько не обижало меня, потому что советы были хорошие, правильные. И я совсем не заметил, как мы стали говорить друг другу «ты». С доверием, наверно, это и само приходит.
Потом, как всегда, Шура принялась меня угощать. Наставила на стол всякой всячины, схватила чайник и побежала в титан за кипятком. А я взял у нее с кровати альбом и стал разглядывать. Припомнилось, что Шура как-то мельком назвала себя художницей. Я сам могу нарисовать кое-что в шесть движений пера. К примеру: горизонтальная линия, на ней полуовал, сверху прилепить другой, поменьше, к этому полуовалу две остренькие скобочки — уши. А внизу размахнуть повольнее любую закорючку — получится хвостик. И вот вам сидит спиной к зрителям превосходный мышонок. Такими же короткими приемами можно великолепно изобразить козу, индюка или черта на коньках. Но я понимаю, что это баловство, озорничанье, а не искусство. Думал я, что и Шура только от скуки балуется. А тут перелистываю страницу за страницей и вижу прямо-таки живые, всамделишные графины, стаканы, человеческий череп, кинжал, до половины вытащенный из ножен, игральные кости. Потом пошли пейзажи, правда, не наши, не сибирские. Потом — всякие сценки с людьми и с животными. Много, наверно сто или двести, разных рисунков. Очень толстый альбом. Так долистал я до страничек, которые почему-то были сколоты скрепками. Но я скрепки снял и тут увидел такое, о чем в книгах писать не разрешается.
Читать дальше