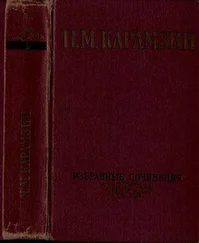Я, конечно же, знал все эти «Джамайки», всех этих дурацких «Попугаев». Знал каждую ноту и каждую интонацию. Я ведь говорил, что еще с детства умел схватывать на лету любую мелодию. А тем более теперь. Но как быть со словами?
— Слов не знаю.
— Это я предусмотрел, — кивнул Виктор Викторович. И достал из-за пазухи бумажки, исписанные от руки. — Держи.
Я скользнул взглядом по верхней бумажке.
— Разберешь?
— Но ведь это… итальянский?
— Итальянский, конечно. Самый итальянский. Какой же еще?
— Я не знаю итальянского. Мы учим немецкий.
— Почему?
Кто его знает, почему. Я и сам удивлялся, почему в нашем училище преподают немецкий язык. Ведь всем известно, что музыкантов следует обучать итальянскому. Должно быть, итальянского учителя трудно найти.
Виктор Викторович озадаченно повертел в руках листки. Наморщил лоб.
— Так ведь буквы одинаковые? Заграничные буквы? Какая разница…
«Заграничные буквы». Жуть что за тип!
— Ладно, — сказал я, забирая листки.
— В семнадцать ноль-ноль, — напомнил Виктор Викторович.
— Ладно.
«Значит, завтра», — сказал он. И до этого завтра, до семнадцати ноль-ноль, у меня оставались сутки с хвостиком. Еще было время подумать. Потерзаться сомнениями. Проявить сознательность. Все как следует взвесить… Представляю себе, как бы он там вертелся, на углу, дожидаючись меня, со своим микроавтобусом, со своей дурацкой сигарой. А я бы даже мог спрятаться за углом и хихикать в кулак. Можно бы и еще кого-нибудь позвать из наших — скажем, Гошку Вяземского, полюбоваться на эту картину. Ведь сдохнешь со смеху, а?..
Только ничего этого не было. Никакой картины. И никаких терзаний.
Вернее, так: мне просто неохота об этом рассказывать, про то, как меня грызла совесть. Как я целую ночь из-за этого не спал. Не хочу. Не желаю оправдываться. Потому что люди оправдываются вовсе не для того, чтобы их другие пожалели, а чтобы самих себя пожалеть: ах, я бедный, несчастный…
Нет, не буду. Тем более теперь, когда все и было, и быльем поросло.
А не спал я тогда всю ночь не из-за себя, а из-за нашего директора, Владимира Константиновича.
Дело в том, что незадолго до этого к нам в училище заявлялся милиционер — молодой щеголеватый старшина. Они с Наместниковым сидели в кабинете часа, наверное, два. И больше никого там с ними не было. Однако тотчас всем сделалось известно, о чем шла речь.
О Кольке Бирюкове! Его милиция все-таки нашла в том прекрасном месте, куда он забрался. Но ему, на счастье, уже исполнилось шестнадцать лет. И теперь он был полноправным гражданином, которого нельзя просто так ухватить за шиворот и препроводить восвояси. Милиционер-то, собственно, и приходил к Владимиру Константиновичу лишь затем, чтобы поскорее отправили Колькины документы туда, где он теперь проживает, чтобы ему там выдали паспорт. (Ну, все в точности, как он мне сам описал, будто бы по плану — вот какой он молодец, Николай Иванович!)
Однако для подобного разговора не требуется двух часов — тут хватило бы и пяти минут. А они сидели целых два часа: старшина милиции и Владимир Константинович Наместников.
И, как я слыхал, беседа у них была не только насчет документов.
Вроде бы милиционер осторожно справился, как бы это так обеспечить, чтобы наши мальчишки больше никуда не сбегали и их не приходилось искать по всему Советскому Союзу. А директор ему на это сказал, что случай с учеником Бирюковым не правило, а исключение, результат душевной драмы, эксцесс. А милиционер вежливо спросил: нельзя ли, дескать, в дальнейшем предотвратить эти эксцессы и душевные драмы, нельзя ли предпринять какие-нибудь меры, чтобы у мальчиков не пропадали голоса? И тут наш Владимир Константинович очень расстроился, даже раскричался и заявил, что он, к сожалению, не господь-бог и не царь природы, а то бы давно навел соответствующий порядок.
Тем бы дело и кончилось, и, может быть, об этом разговоре никто ничего не узнал, кабы там не произошло дальнейшее. Этот щеголеватый старшина милиции, уже откланявшись, чуть замешкался и робко попросил Владимира Константиновича послушать его. То есть послушать, как он поет. У него вроде бы лирический тенор, и он участвует в милицейской самодеятельности, и ему бы хотелось знать, что скажет профессор насчет его голосовых данных?..
Вот уж это было в точности известно всем — не по слухам. Все слышали своими ушами, как старшина пел в директорском кабинете ариозо Ленского.
И все видели, как он уходил: сияющий от радости.
Читать дальше
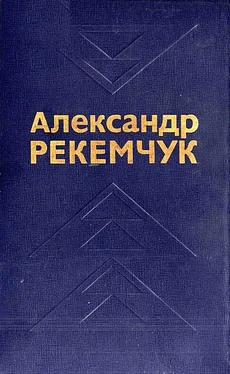

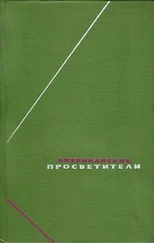

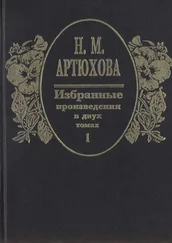

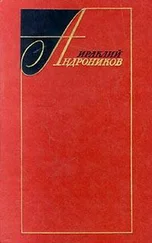
![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 2 [Повести и рассказы]](/books/213876/dmitrij-holendro-izbrannye-proizvedeniya-v-dvuh-tom-thumb.webp)
![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы]](/books/214506/dmitrij-holendro-izbrannye-proizvedeniya-v-dvuh-tom-thumb.webp)