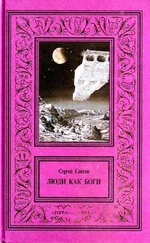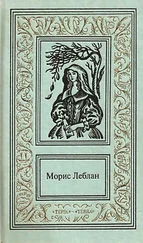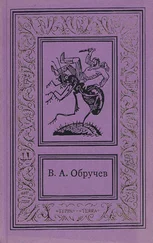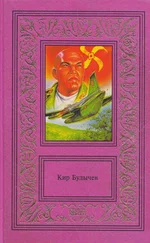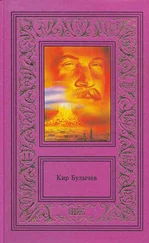Жуков приводил один пример за другим. У него этих примеров труда по–новому, по–коммунистически было великое множество.
Антон сидел и с интересом слушал. Он думал о том, что весь план реконструкции завода именно и пронизан стремлением перевести труд кораблестроителей в новое качество, которое было бы созвучно эпохе великих строек коммунизма. И правильно говорят Ковалев и Жуков — надо умело подготовить рабочих, мастеров, инженеров к переходу на новую, более высокую ступень организации и производительности труда.
— Да, повторяю, — слышал он голос Ковалева, — умельцев надо беречь, берегите их, товарищи! Но растите и новых умельцев — мастеров коммунистического труда, мастеров владения машинами и механизмами!
Ковалев поднялся, пошел к своему письменному столу, порылся в папках и принес небольшой фотографический снимок. На снимке была изображена роза.
Казалось, ее только что срезали с куста: свежие тонкие лепестки, тончайшие острые шильца шипов, мохнатый от ворсинок стебель, зубчатые, в прожилках, листья будто еще хранили на себе сверкающую утреннюю росу.
— Красиво? — спросил Ковалев, когда фотография обошла по кругу все руки.
— Великолепно! — ответил Корней Павлович. — Метод точного литья. Стальная роза. В прошлом году на одном из уральских заводов я видел ее в натуре.
— Не уступит ни тем кружевным фонарям, — продолжал Ковалев, — ни бронзовым или чугунным цветам крепостных мастеров. Но не месяцы ушли на ее изготовление, а секунды, и не руки кудесников ее изготовили, а наша техника. Вот так мы с вами обязаны строить и корабли. Техника должна решать дело, техника, доведенная до степени высочайшего искусства. В такой мы вступили век!
3
Люди, увлеченные своей профессией, отдавшие ей много лет жизни, очень часто и на все окружающее смотрят с точки зрения этой профессии. Иной раз стоишь в коридорчике вагона перед окном, тут же полковник или генерал с тремя, с четырьмя планками орденских лент на кителе; по сторонам поезда бегут орловские или курские бугристые поля, овраги, жидкие лесочки, желтеют на косогорах подсолнечники, машут серебристыми метелками стебли кукурузы. Сосед рассматривает все это рассеянно, прищурив глаза, и думает будто бы о чем–то другом, далеком, чего за окнами вагона не видно. Вдруг взгляд его метнется через овраги, через подсолнечники… Посмотришь и ты туда же: высотка, перед ней равнина, пересеченная шоссейной дорогой, дорога идет из березовых туманных рощ к зеленым кущам старинного городка, над которым торчат белые колоколенки. Ничего особенного, пейзаж, какими богат любой уголок средней России. Почему же так оживился офицер, почему так энергично перебрасывает взгляд свой с высотки на дальние рощи, от рощ к окраинам города и вновь на высотку? Не потому ли, что высотка господствует над шоссейной дорогой, с высотки контролируется каждый шаг по этой дороге, и недавний комбат — ныне командир полка или дивизии — роет тут окопы, ходы сообщения, стрелковые ячейки, — он увидел местность, удобную для решения интереснейшей тактической задачи, он развертывает на ней свои подразделения для удара по противнику. Мы с вами думали, что это овраг, но это совсем не овраг, а почти готовые огневые позиции для минометной батареи; мы любовались рощей, но это не роща, а укрытие для живой силы и техники; и дорога не дорога — коммуникация, и колокольня не колокольня — ориентир. И подсолнухи с кукурузой в любой момент из полевых растений превратятся в подручные материалы для маскировки.
О Викторе Журбине нельзя было сказать, что он не замечал суровой красоты вековых сосен, могучими колоннадами тянувшихся вдоль побережья бухты, не слышал веселого шума молодых березок и дубков в новом парке за Веряжкой, никогда не любовался лиственницами и ясенями на городских улицах, не останавливался перед кедрами возле Исторического музея. Но вот стоит он так, разглядывая таежных обитателей, лет двадцать назад завезенных на Ладу, их прямые стволы, длинные иглы, собранные на ветвях в пучки, отчего темные кроны кедров всегда кажутся взъерошенными, всклокоченными, и вместе с тем. видит нечто иное, скрытое от глаз человека не его профессии. Стволы, шершавая их кора в прозрачных каплях смолы, переплетение ветвей — это же только внешность дерева! Виктор Журбин больше любовался его «душой». Кедр — могуч, красив, он царь тайги. А Виктор этому красавцу предпочтет скромненькую старушку грушу. За эффектной внешностью кедра мы не видим того, что его желтовато–коричневая мелкослойная древесина менее прочна, чем у лиственницы или даже обычной сосны, что кедр очень плохо полируется, в то время как груша, с ее бледно–розовой древесиной, по прочности превосходит дуб, полируется великолепно, до зеркального блеска, не коробится от влаги, плотна почти как бакаут — самое тяжелое и твердое из всех пород дерево на земном шаре.
Читать дальше