— Вы правы, — миролюбиво заметил Сулейманов, — и спора у нас нет…
— Какой там спор! — отмахнулся Сафронов. — Пока вы говорили по телефону, я тут предавался воспоминаниям. Я ведь дневник веду… Двадцать лет назад, когда я посадил деревцо около своего дома, жена сказала: «Зачем? Неужели ты веришь, что мы увидим, как оно вырастет?» Сегодня мой дом окружен густым садом: лох, акация, гледичия, тутовник, карагач — солеустойчивые породы… Астры цветут замечательно! Виноград лезет на крышу… Когда я приехал в Туркмению, геологи повсюду находили признаки нефти: отложения твердых битумов, породы, пропитанные нефтью, в июльский зной, когда раскалялась пустыня, нас просто преследовал запах нефти, только… нефти не было. А в год, когда родился мой старший сын, в Небит-Даге забил грандиозный фонтан. Знаменитая скважина номер тринадцать — о ней писали во всех газетах, с нее-то все и началось! Нынче летом сын приехал на каникулы, я подвел его к тому месту, где когда-то была тринадцатая, та самая…
Сулейманов с интересом слушал Андрея Николаевича. Его озадачил не ход мыслей Сафронова, а то, с каким воодушевлением высказывал их этот трезвый, как ему всегда казалось, сугубо практический человек, совсем не склонный к пафосу.
— Современники всегда удивляются юности гения, — продолжал Сафронов, — ничто не может постигнуть, как это — вчера был мальчишка, под стол бегал — и вот уже он великий поэт, мировой ученый, деятель человечества… А на моих глазах нечто подобное произошло с целым народом. Кочевники, погонщики верблюдов, дети пустыни создали передовую индустрию, построили город, который мы зовем с гордостью туркменским Ленинградом, вырастили сады, сами пошли в институты за знаниями, основали свою Академию наук… Давайте чаще удивляться, Султан Рустамович! Ведь наш сегодняшний конфликт с Аннатуваком — не сомневаюсь, что он еще испортит много крови нам обоим, — это только так, ведро воды на корни яблони. Мы спорим: надо ли полить часом раньше, часом позже… Но ведь яблоня вырастет, непременно вырастет!
Выйдя из-за стола, Сулейманов подошел к Андрею Николаевичу, уже давно расхаживавшему по комнате.
Когда я попросил вас остаться, — сказал геолог, — мне просто хотелось поплакать в чью-нибудь жилетку. А вышло так, что я и пожаловаться не успел, а настроение переменилось. Это замечательно, Андрей Николаевич, что вы так думаете, вернее, способны так думать, я от всей души благодарен вам.
Сафронов улыбался. Ему давно нравился этот человек, с первых дней совместной работы они подружились. Годами геолог был старше инженера, но в Туркмении появился недавно. Сафронов знал, что четыре года назад, когда министерство направило Сулейманова в Небит-Даг, ему предлагали пост управляющего трестом, но он отказался, говоря, что слишком любит свою специальность и надеется больше пользы принести в поле.
Так и стояли они посреди кабинета, два расчувствовавшихся немолодых человека: Сулейманов — легкий, маленький, лысоватый, с воздушными вихрами круто вьющихся волос на висках, Сафронов — громадный, тяжеловесный, с густой, зачесанной назад полуседой гривой. Рукопожатия показалось недостаточно Сафронову — он обнял геолога и, приподняв его, сказал:
— Вас называют прекраснодушным человеком. Есть какой-то иронический оттенок в этом слове. Прекраснодушный — оторванный от земли, парящий над землей… А по-моему, это хорошо. В трудовом коллективе обязательно кто-нибудь должен воспарять. Особенно здесь у нас, на краю света.
И быстро вышел из комнаты, оставив Сулейманова смеяться в одиночестве над тем, как ловко Андрей Николаевич все переложил с больной головы на здоровую: кто же, собственно, из них воспарил?..
Глава одиннадцатая
Старая хочет внуков
— Отец прилетел! Вот радость нежданная…
— Знаю. Мне уже на промысле сказали. Дома он?
— Как же!.. Прямо с самолета — в кабинет начальника. Только позвонил по телефону: жди. Я жду. Три часа жду, тридцать дней, три года буду ждать. Обед простыл…
Не слушая мать, возбужденную долгим ожиданием мужа, Нурджан пошел в комнаты. За окнами багровое, как всегда после песчаной бури, дымное солнце уже склонялось над крышами. Когда Нурджан глянул на улицу, последние лучи освещали белые стены двухэтажных домов, желто-зеленую, уже по-осеннему изреженную листву молодых акаций. На минуту все приобрело тревожный красноватый оттенок — и листья деревьев, и лица прохожих, и даже асфальт мостовой. Хлопотливые воробьи стайками перелетали с места на место, и в их переполохе Нурджану чудилось печальное смятение. Он равнодушно смотрел вниз и по сторонам, все подмечая бессознательно и ничего не видя. По пути домой он размышлял о многом и совсем не так воодушевленно, как утром, и теперь мысли спутались настолько, что он не знал, на кого обижаться и кого упрекать. Уж не себя ли самого?
Читать дальше







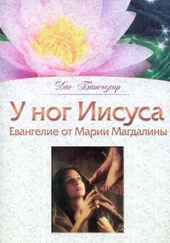

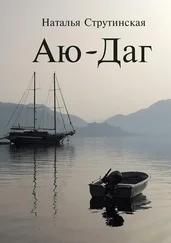

![Никлас Натт-о-Даг - 1793. История одного убийства [litres]](/books/423344/niklas-natt-o-thumb.webp)
