— Вот ваши ботинки, высохли, — сказал Павел Гаврилович. И положил к ее ногам красные туфли на микропористой подошве — подарок Игоря.
— Значит, вы меня отпускаете? — жалобно спросила она.
— Э, нет, — улыбаясь, сказал Павел Гаврилович. Я же с вами совсем еще не познакомился. Разве можно быть такой невежливой?
— Можно, — сказала она, снова заметно озлобясь.
Павел Гаврилович походил по комнате, остановился.
— Могу я вам рассказать про один эпизод на фронте?
— Рассказывайте, мне все равно, раз не отпускаете.
— Значит, так, — сказал Балуев. — Было это на севере, зимой. Ползли мы по снегу. И зарывались головой в него не потому, что снег — защита, а потому, что страшно, а на нас — танки и авиация тоже. И от каждого удара земля под тобой, словно гигантское брюхо, то вздымалась, то опускалась. И, как водится, в такие минуты молишь только об одном, невесть кого молишь: только бы выжить, только бы выжить! И больше ни о чем не думаешь. И весь ты сплошная судорога мыслей и тела. И ты сам себе кажешься огромным и единственным на всей земле. И будто только по тебе одному бьют. Невдалеке от меня полз Зеленцов, смирный такой солдат. Он прямо из школы в армию попал. И старшину слушался, как в школе учителя. И вот стукнула бомба, обдало жаром, швырнуло меня. Очнулся. Сел. Щупаю. Цел, кажется. Только ноги, как ватные, не действуют. А Зеленцов все ползет, а на лице у него вместо глаз кровавые раны: вышибло глаза взрывной волной. Ползет он боком, упираясь на локоть, и, положив два пальца в рот, свистит. Знаете, как свистят ребята, когда голубей гоняют? Помешался? Нет, это он чтобы внимание к себе привлечь. Подобрался к нему другой солдат, гляжу, хочет перебинтовать ему лицо, но Зеленцов его оттолкнул, о чем–то поговорил, снял с себя пояс, обвязал взятые у солдата гранаты вместе со своими в пачку и пополз дальше один навстречу танку. Как он гранаты бросил, я не увидел: меня снова подшибло, и уже основательно. Но вот как этот ослепший паренек свистел, подзывая к себе товарища, я запомнил до конца своей жизни. Не для того свистел, чтобы тот ему помощь оказал. Решение, значит, он сразу принял, гранаты ему понадобились, чтобы как следует танк рвануть. И рванул. Там сейчас, на берегу водохранилища, обелиски поставлены, и на них имя Зеленцова и мое тоже.
— А вы как в мертвые затесались?
— Санитар посчитал убитым, документы взял. А я ночью очнулся, другой, тоже сильно раненный, мне помог выползти, потом нас партизаны подобрали.
— И вы свое имя с памятника не соскоблили? Зачем же людей обманываете? Вас люди небось почитают, которые к памятнику приходят. А вы живой.
— Правильно. Хотел соскоблить, а потом раздумал.
— Странно. Такой человек солидный — и вдруг на обман согласились.
— Видите ли, — сказал Павел Гаврилович, — мы все, кто живы, обязаны жизнью тем, кого сейчас нет. Если бы Зеленцов не подорвал танк, тот бы по мне прокатился и еще других расплющил. Понятно?
— Спас он вас, чего уж тут яснее.
— Так вот, я свое имя с памятника потому и не соскоблил, чтобы все время свою зависимость от него, Зеленцова, чувствовать. И вам я хочу сказать, что все мы, советские люди, друг от друга зависим. И не имеем права никогда, ни при каких обстоятельствах чувствовать себя независимыми. Вот что я хочу вам сказать. Поэтому бросьте хорохориться. Никуда я вас не отпущу. Ложитесь спать, вот вам постель. А завтра сами решите, как вам лучше: здесь остаться или иначе как–нибудь. Сами решите, понятно?
Балуев оделся и ушел на водный переход.
На следующий день Безуглова попросила Павла Гавриловича оставить ее на строительстве. Балуев зачислил ее на курсы лаборантов, а потом она пришла к нему и сама рассказала все о себе беспощадно.
Мать — ткачиха Ярцевской ткацко–прядильной фабрики. Город взяли немцы. Мать болела брюшным тифом и не могла уйти. После обыска в доме больную изнасиловал эсесовец. Она подожгла немецкий склад и ушла к партизанам. Там узнала, что беременна, хотела сделать выкидыш, но каратели все время преследовали отряд, и у нее не было даже нескольких часов, чтобы отлежаться. Потом оказалось поздно. Она родила девочку и с отвращением выкармливала ее. Когда город освободили, мать вернулась на фабрику. Здесь получила «похоронку» о муже — убит под Кенигсбергом. Мать была гордая женщина и, не желая ничего скрывать от людей, дала дочери имя Изольда. Но относилась к ней отчужденно, не могла перебороть в себе брезгливого чувства. Обидев, исступленно рыдала и тратила почти все деньги, чтобы хорошо ее одевать, кормить, будто стремилась искупить постоянную свою вину перед ребенком. А Изольда все время жила в ощущении вины перед матерью, да и перед всеми. Потом приехал друг мужа, бывший наладчик фабрики Федор Фомич Безуглов — Герой Советского Союза. Семья его вся погибла во время бомбежки города. Он часто заходил к матери Изольды, но никогда не разговаривал с девочкой, только молча смотрел на нее своими тяжелыми мрачными глазами.
Читать дальше


![Вадим Кожевников - Это сильнее всего [Рассказы]](/books/24302/vadim-kozhevnikov-eto-silnee-vsego-rasskazy-thumb.webp)
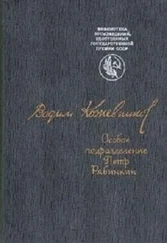

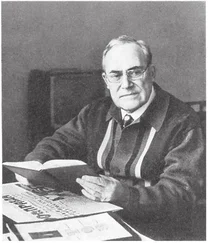

![Вадим Кожевников - Солдатский подвиг. 1918-1968 [Рассказы о Советской армии]](/books/403312/vadim-kozhevnikov-soldatskij-podvig-1918-thumb.webp)