Собака подняла голову, уши ее напряглись и встали, узкая морда повернулась в ту сторону, откуда шел звук.
— Ну вот, — сказал Мезенцев, — опять. — И решительно заявил: — Кончено. Пошлю в тыл, больше терпения моего нет! — И, словно не совсем доверяя себе, еще болеет категорически подтвердил: — Завтра же отправлю!
Может, машина свернула куда–нибудь в сторону или заглох мотор, только шума ее больше не было слышно.
Но собака еще долго оставалась в напряженной позе, потом медленно вздохнула и стала укладываться.
Свернувшись в клубок, спрятав нос в кольцо пушистого хвоста, она снова начала дрожать и тихо повизгивать.
Мезенцев, не отрываясь, что–то писал, широко расставив локти и низко склонившись к бумаге. Потом он взял написанное, поднес к свету, сделал несколько поправок, тщательно сложил бумагу, провел ногтем и вдруг разорвал на мелкие клочки.
— Нет, — сказал он, — нельзя. Ничего не выйдет. Не могу, привык. — И, уже обращаясь ко мне, резко спросил: — Чай пить будете?
Если бы Мезенцев скомандовал: «Руки вверх!», я бы меньше удивился, чем этому внезапному жесту его гостеприимства.
Чай был теплый, невкусный. Но, видно, Мезенцев считал, что чай — единственный возможный повод для неслужебного разговора.
Держа в ладонях кружку с безнадежно остывающим чаем, Мезенцев говорил сухо, быстро, словно вынужденный к разговору, а не побуждаемый собственным желанием.
— В сорок первом году нам, пограничникам, пришлось первым принять предательский удар немцев. Они шли на нас танками. Мы отступали и дрались. С нами были наши собаки. Они были обучены кое–чему. С толом, привязанным к спинам, они бросались под немецкие танки и взрывали их. Мы тоже взрывали танки. Привязывали к мине веревки и бежали наперерез танку. Все искусство заключалось в том, чтобы остановиться, когда мина окажется против гусеницы танка. От моего отряда осталась одна собака. Вот эта, Дженни.
Услышав свое имя, овчарка подняла голову, навострила уши, застучала хвостом и заулыбалась, как это умеют делать собаки, морща дрожащие губы и обнажая клыки.
— Ну, ну, ладно, — сказал собаке Мезенцев и еще поспешнее продолжал: — Немцы окружили нас. Но мы вырвались. Немецкий танк стоял в засаде на просеке. Дженни бросилась к танку, на ней был последний толовый пакет. Но немецкие танкисты уже познакомились с нашими собаками. Танк стал пятиться. Он ударил задом и бил в Дженни из пулемета. Ей перебило лапу. В лесу я отрезал перебитую лапу перочинным ножом и наложил повязку. С тех пор мы всегда вместе.
И, видимо, обрадовавшись, что так все быстро рассказал, Мезенцев поспешно встал, подошел к Дженни и, погружая руку в теплую ее шерсть, с грустью добавил:
— Умная, ласковая, только вот, знаете, танки. Привяжешь — веревку перегрызет. Закроешь в блиндаже, кто–нибудь войдет — она собьет с ног, выскочит. Недавно на НП тоже. Хорошо — бронебойщики выручили. Разложили танк, когда она под него укладывалась. Прямо беда.
Собака перевернулась на спину и лизнула руку Мезенцева. Глаза ее светились. Мезенцев вытер руку и подошел к телефону.
— Хорошо, — сказал он довольным голосом, — очень хорошо! Пускай скапливаются.
Прищуриваясь, он смотрел на карту и наносил на ней толстые красные изогнутые стрелы.
В углу стукнула миска. Я подумал, что Дженни ест, и обрадовался. Но собака не ела. Она сидела, упираясь передней лапой в миску, брюхо ее было втянуто, голова с торчащими ушами повернута к окну.
Казалось, собака не дышала, так она была неподвижна. Внезапно овчарка бросилась к двери, ударилась о нее лапой и грудью, упала, потом поднялась, жалобно огляделась и, сжавшись в комок, прыгнула на стол, а оттуда в окно. Посыпались осколки стекла, рама оказалась слабой и вывалилась наружу.
Холодный ветер со снегом рванулся в хату.
Мезенцев кинулся к дверям. Зазвонил телефон. Махнув рукой, подполковник взял трубку.
Окно я заткнул свернутым полушубком. Порванную когтями Дженни карту Мезенцев заклеил.
Скоро глухие и тяжелые толчки разрывов снарядов вышибли полушубок из окна. Я вышел из хаты.
Казалось, что небо сделано из кровельного железа, оно гремело, колеблясь и выгибаясь. А облака в нем горели, словно они были пропитаны нефтью.
На рассвете я вернулся в блиндаж.
Мезенцев сидел, откинувшись на спинку стула. Лицо его было, как всегда, сухо, спокойно: бессонная ночь не наложила на него своего отпечатка. Ровным голосом он диктовал в штаб донесение о разгроме немецкой танковой бригады.
Читать дальше


![Вадим Кожевников - Это сильнее всего [Рассказы]](/books/24302/vadim-kozhevnikov-eto-silnee-vsego-rasskazy-thumb.webp)
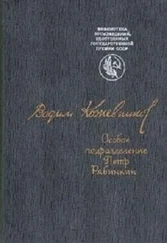

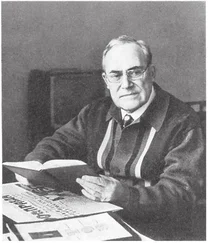

![Вадим Кожевников - Солдатский подвиг. 1918-1968 [Рассказы о Советской армии]](/books/403312/vadim-kozhevnikov-soldatskij-podvig-1918-thumb.webp)