Что заставляет пренебрегать опасностью? Усталость, легкомыслие или нетерпение? Пожалуй, все вместе.
Саперы с миноискателями, похожие на рыбаков с сачками, бродят по полю и шарят в траве. Они кричат на бойцов. Бойцы молчат — боятся, как бы саперы снова не погнали на дорогу, где грязь липнет к истомленным ногам пудовыми комьями.
Слева от дороги груда кирпича, ямы, наполненные углем и пеплом.
На древесный бурьян похожи высохшие сады. Сухие, пыльные трупы деревьев с черными ветвями выглядят печально и сурово. Кажется, тысячи этих деревьев покончили с собой, чтобы ни аромата своего, ни красоты цветения, ни нежного тела своих плодов не отдать врагу.
Полоса немецких укреплений разбита снарядами.
Всюду валяются какие–то коробки, чехлы, футляры. Поперек канавы лежат, мостки для пешеходов, а канава узенькая.
Впереди окопов — рогатки, обмотанные спиралями колючей проволоки, бесконечными рядами уходят они к горизонту.
Белый, меловой свет луны освещает развалины.
Бойцы готовятся к ночлегу, короткому ночлегу после боя. С брезгливым отвращением обходят они тряпичный хлам, лежащий возле немецких землянок: женские шубы с оторванными меховыми воротниками, юбки вместо наволочек, набитые сеном.
Сержант Гуськов сидит у костра и зашивает прореху на шинели. Морщинистое, сухое лицо его с густыми бровями скорбно–озабоченно.
— Миной? — спрашивает Толкушин.
— Нет, так зацепился.
— А мне прямо в ноги плюхнулась, — возбужденно сказал Толкушин. — Все железо через голову переплюнуло и не задело. Вот счастье! — И засмеялся.
Воткнув иголку в подкладку пилотки, Гуськов поднял лицо и тихо спросил:
— Сказывали, на тебя двое навалились?
— Один, — обрадованно пояснил Толкушин. — Второго мы вместе с Кузиным приняли. Если считать, так вроде полфашиста. — И радостно добавил: — У меня перед ребятами совесть чистая.
Гуськов протянул руку, поправил котелок с водой, висящий над костром, потом задумчиво сказал:
— А меня, Вася, совесть все мучает. Вот и дрался я сегодня аккуратно…
— Куда больше, штук пять накидали, — почтительно поддакнул Толкушин. — Прямо как лев!
— Мне, Вася, их кидать по большому счету надо. Ты того не знаешь, что я знаю.
Гуськов замолчал, глядя в живое пламя костра, потом снова сказал:
— Сегодня Тихонова хоронили. Ребята плакали, а я с сухими глазами стоял. Ты слушай, что на моей душе.
— Я слушаю, — сказал Толкушин и перестал размешивать в котелке щепкой.
— У меня два друга были, — сказал Гуськов, — Фомин и Алексеев. С ними я три года в первую мировую в окопах просидел, и стали мы от этого как братья. В семнадцатом нас делегатами в Питер к Ленину послали. Не к нему лично, на конференцию. А вышло — пришлось для Советской власти первое здание добыть — Зимний штурмовали, дворец такой. Экскурсантам его всегда показывают. Убили там Фомина кадеты на лестнице. Остались мы с Алексеевым вдвоем. Немного погодя немцы Псков взяли, к самому Питеру двинулись. Пошли мы с Алексеевым на немцев. Ранили меня. Алексеев на себе тащил. Убили Алексеева. Осиротел я. Ну, там еще фронты были. В общем, вернулся с гражданской и начал семьи погибших своих товарищей разыскивать. У нас клятва была: если кто погибнет, так заботу о семье товарища берет тот, кто живой останется. Нашел я их семьи. Плохо жили. Прямо сказать — в голоде.
Чего я только не делал, чтобы жизнь им поправить! Нанимался на всякую тяжелую работу. Стыдно сказать, на толкучке барахлом торговал. Это коммунист с семнадцатого года! Вот, брат, дело какое. Вызвали в райком партии. Рассказал все без утайки. Пускай, думаю, что хотят, то и делают. Партбилет на стол положил. А секретарь Вавилов — он у нас эскадроном моряков раньше командовал (в гражданской такие подразделения водились) — ходит по кабинету, на билет мой не смотрит, в стол не прячет и молчит. Потом сказал: «Ты, Гуськов, что думаешь? У тебя у одного только совесть? А у партии совести нету?» — «Нет, — сказал я, — я так не думаю». — «Не думаешь, так выполняй свою партийную клятву тоже. Ты не подачки людям давай, ты им обещанное счастье добудь. Ты слово свое, слово коммуниста, выполни».
И послал меня Вавилов на Волховское строительство — землекопом. Землекопы — трудный народ, но все сознательные. Потом на экскаваторе машинистом работал. Сколько я земли вынул — сосчитать трудно. Много по нашей стране поездил. И хоть помогать сильно семьям своих товарищей не мог, но письма получал от них часто. Что ж ты думаешь? Ведь по–настоящему люди зажили. Ребята школы окончили, в вузы подались. Фомины — так те в новый дом переехали, на пятый этаж. Погостить зовут. Приезжаю. Колька, старший сын Фоминых, на такси за мной на вокзал приехал. Обнимают меня все, целуют. Словно счастье все это я им из своих рук выдал. А я всего техник–строитель, даже до инженера не дотянул. Вот, Толкушин, какое дело. Хорошо мне было у них. Радостно. Когда уезжал — выпил на прощанье маленько. Подал я руку Марии Федосеевне и говорю развязно, — если бы не выпил, никогда не сказал бы так: «Ну, как, Мария Федосеевна, выполнил я свою клятву, какую Андрюше давал?» Вот так и сказал.
Читать дальше


![Вадим Кожевников - Это сильнее всего [Рассказы]](/books/24302/vadim-kozhevnikov-eto-silnee-vsego-rasskazy-thumb.webp)
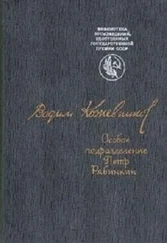

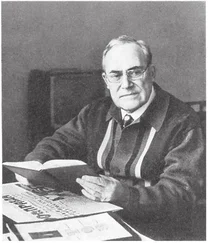

![Вадим Кожевников - Солдатский подвиг. 1918-1968 [Рассказы о Советской армии]](/books/403312/vadim-kozhevnikov-soldatskij-podvig-1918-thumb.webp)