— Я бы, знаешь, картошки со сметаной сейчас поел.
— Что ж, это организовать можно, — одобрил Фирсов. Спросил озабоченно: — А как с новым переходом, когда погружать технику будем?
— А чего тянуть?
— Грунты там тоже тяжелые, — мрачно сказал Фирсов.
— Хуже здешних, — согласился Балуев. — С учетом вчерашнего одолеем. Ты вот гляди, — оживился Балуев, — я тут прикинул. — Сел на корточки, разгладил ладонью песок и стал чертить щепкой схему. — Значит, я вот что предлагаю, — говорил Павел Гаврилович. — Ну её к черту, траншею! Давай так договоримся с «трассовиками». Возьмем у них на день в аренду десяток трубоукладчиков, добавим шесть своих, поставим в одну линию, разом поднимем дюкер на стальных полотенцах и снесем в реку. А с другого берега двух тракторов хватит. Они тянуть будут, только чтобы течением не сносило. На плаву весу в нем останется только сорок процентов, понятно? Экономию это нам даст тысяч восемьдесят. И главное — время. Все подготовим, соберем за ночь технику в кулак — за день протащим.
Фирсов, вперив глаза в схему, начертанную на песке, долго сосредоточенно соображал, жевал обветренными губами, сопел, будто нес сейчас на спине невыносимую тяжесть. Потом объявил с облегченным вздохом:
— А что ж, пойдет! Невиданно, а вроде получится. И вся техника на сто процентов сработает.
Подошел Фокин, пожал Балуеву локоть, сказал:
— Я вот чего. Бумага наша не очень годится. Давай новую подпишем с учетом сегодняшнего.
— Давай, — рассеянно сказал Балуев.
— Так ты что, полено, не благодаришь, не радуешься? — возмутился Фокин.
— Ты погоди, — сказал Балуев. — Видишь занят. — И сказал Фирсову, продолжая разговор: — Сначала репетировать будем, метров двести потолкаем, поносим, а потом целиком и затараним в реку…
Ранняя весна для строителей — крупная неприятность, личный выпад природы. Щебет тающих льдинок, парафиновые звездочки подснежников на проталине вызывают у них отвращение. Если бы можно было без больших капитальных затрат остановить солнце, они остановили бы его. Никто так не чувствителен к погоде, как строители. Такая уж у них натура — нервная, впечатлительная. О весне и осени отзываются равно раздраженно: «И то и другое дрянь!» Землю они называют просто грунтом.
Пусть стоит невыносимая жара или столь же невыносимая стужа, если плотность грунта обеспечена, значит, условия созданы. Но когда все течет, все изменяется, то какая разница, кто тебе пакостит — весна или осень. От обеих только сверхсметные расходы. Так рассуждают строители о двух чудесных временах года — весне и осени…
Полчища дородных деревьев стояли на влажном буром грунте. У подножия их — черная, истлевшая листва берез и осин, листья дубов — крепкокожие — оставались нетленными. Мелкий серый дождь неустанно размывал грязный снег в оврагах.
Замурованное сырыми, толстыми облаками солнце чуть теплилось.
Балуев с друзьями ехал на «пикапе» вдоль тысячекилометровой трассы большой газовой магистрали. Работы здесь почти завершены. Бесконечно тянулась в пространстве ровная полоса рыжей насыпи, под которой погребена стальная нить трубопровода. С ненавистью глядя на расквашенную дорогу, Павел Гаврилович Балуев сказал сердито:
— Пожилой возраст, он все равно что болезнь, от него лечить людей надо.
— Рано тебе о летах говорить.
— А если они на меня лезут? Вот и память уже не та. — Обернулся к Сиволобову: — Хотел на производственном совещании тебя обругать, позабыл, придется на следующем.
Обычно все привыкли видеть Сиволобова верхом на мотоцикле. Если бы его мотоцикл был конем, он наверняка отказал бы в первые же дни службы, надорвавшись от бешеной гонки по трассе. Сиволобов обращался с двухколесной машиной яростно, принуждал ее скакать даже по болотным кочкам, ибо газопровод пересекал и топи, и горы, и лесные чащобы. Вильман называл Сиволобова кентавром. Сейчас, без мотоцикла (разбитого и привязанного сзади к машине), Сиволобов выглядел обездоленным, словно всадник, потерявший коня.
Поеживаясь под пронзительным взглядом Балуева, Сиволобов предпочел поддержать разговор о долголетии человека. Он сказал задумчиво:
— Я жить сколько угодно согласен. Но медикамента на продление пока нет. А жить, как некоторые долгожители, на одном медленном темпе в горах среди овец и чистого воздуха, без всякой общественности, я против. Это не жизнь, а резинка; тянуть такую я не желаю.
Фирсов, не меняя выражения угрюмого тяжелого лица, вздохнул:
Читать дальше


![Вадим Кожевников - Это сильнее всего [Рассказы]](/books/24302/vadim-kozhevnikov-eto-silnee-vsego-rasskazy-thumb.webp)
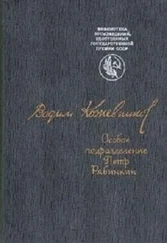

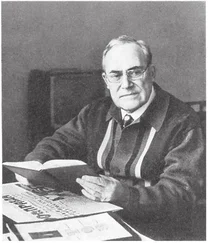

![Вадим Кожевников - Солдатский подвиг. 1918-1968 [Рассказы о Советской армии]](/books/403312/vadim-kozhevnikov-soldatskij-podvig-1918-thumb.webp)