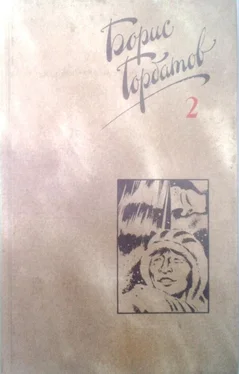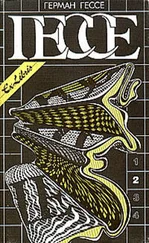Дом, в котором он снимал квартиру, был сложен из серого камня, взятого тут же в горах, но, в отличие от соседних домов, поверх камней облеплен глиной и для шику наскоро побелен. Ребра камней выпирали в щели там, где растрескался мел, дом стал пятнистым. Он был полутораэтажным. В нижнем этаже (он уходил глубоко в землю, составляя часть фундамента) зимовал скот, длинный под дощатой крышей деревянный коридор-веранда опоясывал весь дом, по принятому здесь архитектурному обычаю. Когда-то коридор выкрасили багряной охрой, краска облупилась, строганное, почерневшее дерево выглядывало тут и там. На веранде всегда сушилась скошенная трава, пахло свежим сеном.
К дому примыкал фруктовый сад, и Ковалев в окно сквозь узоры на стекле видел яблони, согнувшиеся под хлопьями снега. Это напоминало ему отцовы хутора и есаульскую усадьбу в станице.
Комната помощника начальника штаба была просторная и пустая. Он не любил таскать за собой вещей. «Я походный человек, — говорил он бывавшим у него гостям, — я человек бивуака». Когда у него спрашивали, почему ни одной фотографии нет на стене, ни на столе, он отвечал кратко: «У меня никого нет». Товарищи не верили.
— А семья?
— У меня нет семьи.
— Невеста? Жена? Любимая?
— Я никого не любил.
От него смущенно отступались. И сам он тоже не любил фотографироваться. Избегал фотолюбителей (в полку их развелось, что грибов после дождя), когда на него напирали, он насмешливо цитировал Эдгара По: «Фотографироваться любят люди, которые боятся смерти. А я смерти не боюсь». В полку о нем ходила слава как о суровом, аскетическом, суховатом и неподкупном командире. Только командир полка, многосемейный и добрейший Петр Филиппович Бывалов. которого в полку за глаза иначе как «отцом-командиром» и не звали, говаривал, качая головой:
— Ох, боюсь я одиноких людей. Одинокий человек — опасный. У каждого человека должна быть семья, друзья, товарищи.
Ни одной лишней вещи не было в пустой комнате Ковалева. Кровать, коврик, стол, стулья, платяной шкаф, часы-ходики, лампа под зеленым абажуром, умывальник — все хозяйское, своего ничего не было.
Окна были закованы в толстые железные решетки — память об армяно-тюркской резне... Этот дом, в котором жил помначштаба, видал виды, иногда в сумерках Ковалеву мерещилась застывшая кровь на полу, но то были пламень и отсветы печки. И сам хозяин дома уже позабыл о тех страшных временах, когда с гор кровавым потоком падали на съежившийся в испуге город тюрки и убивали, резали, громили, жгли... «Чудесные времена были, — насмешливо думал Ковалев. — Что до меня, я постарался бы тогда стать тюрком».
Хозяин предложил как-то сломать решетки.
— Не надо, — отмахнулся Ковалев. — Пусть будут.
Он жил двойной жизнью: одной в полку на людях — строгий, корректный, подтянутый командир, другой — здесь, в темной клетке комнаты, окованной железными решетками. Этой второй жизни в полку никто не знал.
Никто не знал, как метался он по комнате. Он готов был рычать от нетерпения, злобы, страха. Когда же, когда?
Валился на диван. Вкрадчиво шелестела бумага. Что это? А, газеты! Он вытаскивал их и злобно швырял на пол. Ничего утешительного. От бодряцкого треска газет звенело в ушах. Что они медлят, — они там, за границей? Слепые, разве не видят они, как ощетинивается страна?
Он чувствовал свое бессилие и только кусал кулаки. Что он мог сделать? Он избрал военную карьеру не только потому, что это соответствовало его духу и давним стремлениям, а и потому, что хотел быть ближе к «заварушке», когда она грянет. Во взрыв внутри он не верил. Мужичья власть не падает под мужичьим топором. Топор должен прийти извне. В своих мечтах он видел: начинается «заварушка», и он, на белом коне, во главе преданных ему эскадронов с развернутыми знаменами, переходит к своим. Его встречают, как рыцаря, победителя и допускают к дележке. Измена родине? Но где его родина? Она кочует по бульварам европейских столиц.
Горькой любовью обманутого сына любит он и ненавидит ее. И ненавидя — любит. У него с нею свои счеты. С отцом, бросившим сына на произвол судьбы и убежавшим, спасая свою шкуру. С генералами, которые пролили, прозевали, прошляпили Россию, с эмигрантской накипью, которая болтает и проституирует в то время, как он здесь каждую минуту рискует головой.
Но это семейные счеты. «Сочтемся после!» — думает он. С родиной же, которая сейчас окружает его, у него кровавый счет, и счесть можно только кровью. Резать, жечь, убивать. Камня на камне! Он захлебнется в крови, в горячей, остро пахнущей человечине. Жечь их дворцы и музеи! Ломать их памятники и клубы. Насиловать их девушек, которыми они так гордятся. Убивать! Убивать! Убивать! О, он расквитается за все — за унижения, за двойную жизнь, за страхи, которые предательски одолевают его по ночам. За ненависть невысказанную, которая жжет его.
Читать дальше