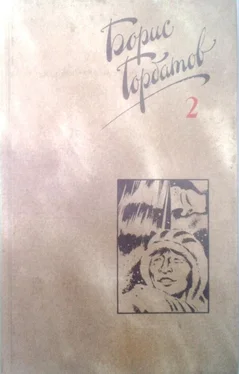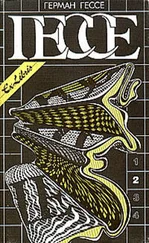«Все равно, все равно, — думал он сонно. — Все равно».
Теперь редко получал он вести из дому. Товарищи писали ему, он не ответил, они бросили писать. Теперь он даже жалел об этом, но по-прежнему никому не писал.
Когда вечером приносили в роту почту и бойцы нетерпеливо набрасывались на дневального, он тоже подходил. Хорошо бы получить письмо, теплое, родное. Он знал — неоткуда ждать писем. Разве Любаша? Дневальный громко выкрикивал имена счастливцев, — их заставляли плясать за письмо, — Алеше писем не было. Он уходил обратно, в свой угол, даже не опечаленный.
— Все равно.
Все реже и реже писала Любаша. И опять в этом был виноват только он, он один. Он ответил ей однажды коротко и грубо, с досадой: «Забудь меня и выходи замуж». Потом пожалел об этом, хотел было написать вдогонку другое письмо, да так и не написал.
«Все равно!» Любаша обиделась и прислала письмо, искапанное слезами. Он поморщился и не ответил. После мертвого часа он любил в ленуголке читать газеты. Нетерпеливо ждал, когда принесут их из полковой библиотеки. Сам часто, не выдержав, ходил за ними. Долго читал — от строки до строки. До объявления о спектаклях в театрах. «А я-то ни разу в жизни так и не собрался в оперу?!» — думал он при этом. Как много упущено им в прошлой жизни!
Однажды он с удивлением увидел в газете портрет Павлика Гамаюна. Да, это он, это его лицо, непохожее и похожее, с застенчивой улыбкой на губах. По этой улыбке Алеша только и узнал его. О Павлике писали, что он со своей комсомольской бригадой монтажников показал чудеса на стройке новой домны. Журналист подробно и восторженно описывал молодого мастера и его рекорды.
«Так Павлик стал героем», — подумал Алеша и не обрадовался, а почувствовал даже какое-то неприятное гадкое чувство, в котором не захотел сознаться себе. Зависть? Он сердито отбросил газету.
В другой раз попалось имя Рябинина. Инженера ругали за то, что смена его отстает. Ругали хлестко, — но опять только зависть почувствовал, прочитав заметку, Гайдаш. Зависть? К кому? К Рябинину? За то, что его ругали?
Он даже сам удивился. Разве мало ругали Алешу? Ему ли завидовать! И все-таки это была зависть, непонятная, дикая, смешная, — бесполезно было отрицать ее.
Откинувшись на спинку стула и чуть прищурив глаза, Алексей пытался представить, что делают сейчас Рябинин, Павлик, Любаша, Ершов. Строится ли завод Ершова? Он видел тогда озабоченное лицо Рябинина, озаренное багровым пламенем плавки. Он видел Павлика, в распахнутом полушубке и с шарфом, раздутым ветром, на самой вершине мачты. Думают ли они о своем товарище, об Алеше? Но им нельзя. Они заняты.
Глухо доносился до Алеши шум стройки, охватившей страну. Вероятно, в этот шум вливались и скрип бревен на Куре, и грохот разбиваемого молотками камня на новой шоссейной дороге в горах, и, может быть, трескотня выстрелов на стрельбище.
Ему хотелось тогда написать Павлику и Рябинину теплое, дружеское письмо, что-нибудь о том, что вы, мол, стройте и будьте спокойны за границу, ваш труд оберегается надежными часовыми. Но имел ли он право так написать после сегодняшней стрельбы? Не начать ли прежде тренироваться в стрельбе, а потом уж писать? Эти мысли беспокоили, раздражали его — лучше было не думать, не читать. Махнуть рукой — все равно, все равно! — и уйти в угол, к печке, смотреть, как дымят головешки, и дремать под сладкий и теплый запах сгорающих дров.
Но к газетам тянуло. Это была ежедневная пытка, от которой не уйти. Он бичевал себя газетой. «Вот, — злорадствовал он над собой, — вот стал уже Васька Спирин секретарем горкома партии. Давно ль ты ел с ним вместе бутерброды на заседаниях Губкомола?» Как быстро росли люди. Он не успевал угнаться за ними по газетным столбцам.
Что будет с ними через год, когда он вернется! К ним нельзя будет и подступиться. Они заважничают, зазнаются. Захотят ли они принять его! Небось продержат в приемной часок-другой, потом снисходительно примут. О нет, он не пойдет к ним. Ни за что. А куда же он пойдет? Что будет делать?
«После! После! После успею подумать!»
Теперь он хотел только одного, чтоб его оставили в покое, чтоб забыли о нем. Вычеркнули бы. Был такой Алексей Гайдаш. Умер. Погиб. Сорвался с небоскреба.
Но его не хотели оставлять в покое. Конопатин все чаще и чаще вел душеспасительные беседы. Политрук не понимал, что произошло с Гайдашем, но Гайдаш и сам не понимал этого. Беседы только озлобили его.
«Зачем со мной нянчатся? Я не ребенок». Он грубо отвечал командиру.
Читать дальше