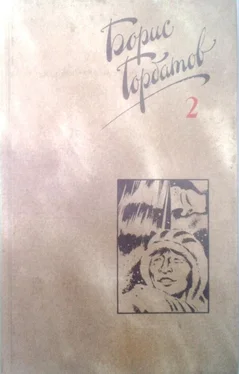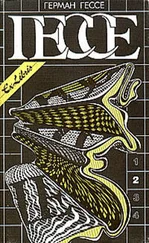Но вот дежурный положит руку на выключатель, вспыхнут лампы — и все вскочат, задвигаются, побегут. Взлетят над койками одеяла, как серые ночные птицы, и упадут на смятые простыни. Застучат сапоги по дощатому полу. Загремят умывальники, засвистят щетки, где-то лязгнет оружие; сонный мир казармы преобразится, в нем молодо и задорно зазвенят голоса, шутки, смех. А через пять минут длинная ровная шеренга бойцов застынет в коридоре, готовая к утренней поверке, к боевому дню. И только запоздавшие, которых презрительно называют «тюхами», будут к великому огорчению своих отделенных командиров смущенно пробираться между койками под суровым непроницаемым взглядом старшины роты.
Алеша привык вставать рано. Иногда он просыпался даже раньше побудки. Он лежал тогда под одеялом и нетерпеливо прислушивался к сонному дыханию казармы. Вставать раньше не разрешалось. Даже если за пять минут до побудки пойдешь за нуждой в уборную, все равно нужно раздеться, лечь в постель и ждать сигнала.
«Зачем это? Зачем это нужно?» — не понимал Алеша. Ему казалось это простым солдафонством. Он спрашивал своего отделкома Гущина, но тот на это, как и на многое другое, непонятное Алеше, отвечал еще непонятнее и беспомощнее:
— Так положено по уставу.
Это объяснение злило Алешу. Самое слово «устав» было всегда недружелюбно ему, чем-то церковным, монастырским пахло от него. Алексей предвидел, что ему еще предстоит повоевать с уставами.
Но он покорно лежал до сигнала в постели и ждал. Сейчас подойдет дежурный по роте к выключателю, зажжет свет и, упершись руками в бока, изо всей силы надувшись и покраснев, заорет:
— Подымайсь!
Этот крик всегда вызывал в Алеше бешенство. Хотелось вскочить и запустить сапогом в широко открытую глотку. Дежурный находил особое удовольствие в том, чтобы заорать внезапно, оглушительно и изо всей силы.
Потом самому Алеше довелось быть дежурным, всю ночь он мучительно боролся с охватывавшим его сном, выходил на улицу, промывал смыкавшиеся глаза водой, тоскливо смотрел, как медленно-медленно ползет, царапается по циферблату часовая стрелка. И когда наконец подошли желанные шесть часов, он, сам не осознавая и не желая, оглушительно заорал:
— Подымайсь!
Хотелось, чтоб скорее встрепенулся этот сонный мир и начисто кончилась томительная, пустынная ночь.
К этому крику привыкли. Днем бойцы обсуждали, хорошо ли, звонко ли кричал сегодня дежурный, словно то был сольный номер тенора. Рассказывали анекдот о Руниче. Он был рабочим на кухне и уснул. Его толкали, трясли за плечи — он все не просыпался. Тогда кто-то тихо произнес над его ухом:
— Подымайсь! — И он вскочил как встрепанный. Его первым жестом было — руки влево, туда, где обычно лежала одежда. Потом он отдернул руки, увидел, что одет, и, услышав хохот ребят, сам усмехнулся.
Сигналом утренней побудки сразу начинался горячий день, словно, поворачивая выключатель, дежурный включал ток в сонные тела бойцов, и их подбрасывало, двигало этим током. В мире сна не было ни времени, ни пространства. Сейчас после побудки секунды сразу вступали в свои права.
За пять минут надо было одеться, умыться, вычистить сапоги и заправить койку.
Затем начиналась утренняя зарядка.
Она носила ярко выраженный горный характер. Из степных парней, из людей плоского равнинного мышления делали горных орлов. Их учили ходить в горах, драться в горах, бегать по горам и думать по-горному. Командир роты был изобретателен: то придумывал он «спуски и подъемы», и бойцы сбегали с крутых скатов, по хрусткому, тонкому льду переправлялись через горную речку, карабкались, хватаясь за колючие кустарники, на высокий берег, чтоб, отдышавшись там, снова сбежать вниз к речушке и снова карабкаться вверх; то затевал бег по пересеченной местности, и сам весело встречал прибежавших к казарме первыми. Каждому бойцу выдавал номерок, который показывал, каким пришел он к финишу. И бойцы, получившие первые номерки, гордо хранили их, а остальные вкладывали все силы, чтоб свой «двадцать шестой» номерок сменить хотя бы на пятнадцатый. Иногда для отдыха — обычно в выходной день — вместо горной зарядки затевалась игра в чехарду, это было легко и весело, и только Дымшиц застревал на спине первого же бойца и предпочитал лучше подставлять свою спину, чем карабкаться на крутые высокие спины товарищей.
Но чаще всего бойцов, по утреннему холодку, вели к Сахарной Головке, что нависала почти над самой казармой. Эта высотка действительно похожа была на круглую, удлиненную сверху голову сахара, синие тучи плотно облегали ее, как оберточная бумага, и только на самой вершине искристым рафинадом блестел снег. Такой она была днем, но ранним утром тонула она в сырой, дрожащей мгле. Вершины не было видно, и оттого казалось, что, сколько бы ни карабкаться вверх, не будет конца подъему. Поеживаясь от холода, бойцы подступали к высоте. Они сбивались вместе у подошвы, чтоб потом по команде рассыпаться по всей горе, преодолевая ее упругие, крутые скаты.
Читать дальше