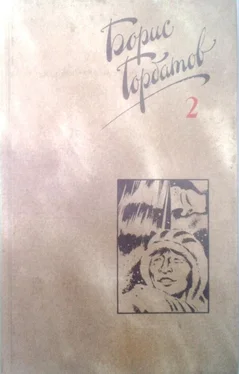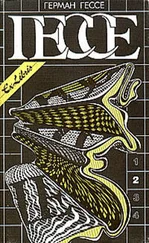Когда наши отцы воевали — мы играли в войну. Стреляные гильзы, еще теплые и закопченные, служили нам игрушками. Мы подбирали их на поле боя и коллекционировали — русские, японские, берданочные, револьверные, нагана, браунинга — как гимназисты в старину коллекционировали папиросные коробки. Мы знали толк в оружии и по звуку выстрела определяли орудие, — так наши ребята сейчас разбираются в автомобильных марках. Мы носили одежду, перешитую из шинелей и гимнастерок взрослых, мать тщательно заштопывала круглые дырочки от пуль и неслышно плакала. Мы донашивали огромные отцовские сапоги, порыжевшие и сморщившиеся.
По каким болотам войны шагали они, в каких лужах порыжели?
Мы мечтали о собственных сапогах, о настоящих гимнастерках — настоящих, то есть с петличками и номером своего полка.
Но вот мы выросли, стали слесарями, инженерами, агрономами, натуралистами, — мы строили дома, машины, мосты; из холостяцких казарм мы перебрались в собственные квартиры, у нас появились вещи — коврик над письменным столом, стоптанные мягкие туфли, певучий пружинный диван, — на стене, под охотничьим ружьем, на огромном гвозде красовалась посеревшая буденовка, а в шкафу ждала своего срока рыжая шинелишка с выцветшим номером на петлицах.
Иногда мы вытаскивали эти драгоценные реликвии, — это случалось в дни сборов запаса, чистили их, штопали места, испорченные молью. Нам было неловко являться в часть в штатском виде. Мы приходили в старой шинельке, хоть и стала она уж тесноватой — мы раздобрели, но были годны в строй.
Мы прибывали в лагерь не в гости, не на временные квартиры, — мы возвращались домой из долгосрочного отпуска. Здесь в серой походной палатке был наш дом, и мы, почистив пыльные сапоги, занимали свое место в строю, торопливо отвечали на перекличке:
— Я!
Но войны не было, — через месяц, подучив, протерев и смазав, как добрую старую винтовку, нас возвращали обратно строить мосты и писать.
Чувство войны не покидало нас, что бы мы ни делали — любили ли девушек, качали ли ребят, или щелкали на счетах в конторе.
Империалистической войны мы не знали — она доходила до нас лишь в рассказах отцов, вернувшихся домой «на побывку», но это так тесно сплеталось со сказками бабушки, что царица Алиса представлялась нам злой бабой-ягой, царь Николка — людоедом, ревущим: «покатаюся, поваляюся, человечьего мяса покушаю», а лихой казак Кузьма Крючков оказывался храбрым Иванушкой-дурачком. Потом к этим детским представлениям прибавились первоавгустовские демонстрации, книги Ленина, злые карикатуры Гросса и страшный холм человечьих черепов у Верещагина.
Мы были детьми войны гражданской. Эту войну мы понимали, чувствовали. Эта полна была для нас реального смысла. В ней видели мы, ребята городской окраины, борьбу «наших» с врагами. В этой войне мы не были ни зрителями, ни нейтральными. Мы воевали у огромной карты на площади, у окна РОСТА; на захламленном пустыре мы воспроизводили сражения, мы тоже брали Ростов лихим кавалерийским налетом, мы тоже падали сраженными у Перекопа.
Оттого слово «борьба» было для нас священным. Оно означало борьбу за справедливость, за счастье всех, за мир и порядок на земле. Из таких и выходят поколения, закопченные пороховым дымом, готовые к новой борьбе.
Мы росли в сознании того, что и нам доведется защищать свою родину с оружием в руках, мудрено ли, что питали мы уважение к винтовке, а осоавиахимонский противогаз — чудовище со стеклянными глазами — вешали на стену, на коврик рядом с охотничьим ружьем, буденовкой и портретом любимой девушки.
Мы росли, говоря себе: «В грядущих схватках придет и наш черед для доблести, для подвигов, для славы».
Командир улыбнулся:
— Ого! Я предсказываю вам, Гайдаш: вы будете отличным гранатометчиком. Ставлю вам тройку с плюсом, Только «эх!» кричать не надо.
Насмешка почудилась Алеше в голосе командира, он насупился и отошел в сторону.
А командир отметил в блокноте: «10. Гайдаш Алексей — спортивная подготовка слабая, но данные хорошие. С характером. Упрямый, самолюбивый, волевой». Командир роты Зубакин был психологом.
Алеша решил взять реванш в беге на три тысячи метров. Он никогда не был на спортивной дорожке, но всегда считал себя хоть неладно скроенным, зато крепко сшитым парнем. Среди дохлых комитетчиков, измученных заседаниями, куревом взасос, долголетней учебой в партшколах и комвузах, он выделялся своим буйным здоровьем, простонародной краснощекостью и силой. Иногда он, подвыпив, затевал кутерьму: расшвыривал ребят по комнате, боролся один против целой группы, пыхтел, возился. Он гордился своим здоровьем. Ему чудилась в себе скрытая сила, она, притаившись, дремлет, не было случая разбудить ее, — вот он сейчас мобилизует ее всю, всю без остатка. Вспомнил усмешку командира — скривил рот: что ж, посмотрим! Взглянул на шоссе — оно искрилось. «Бежать по обочине? Задохнешься в пыли. Так! Бежать ближе к орешнику мягкой тропкой». Скинул гимнастерку — пахнуло прохладным ветром. Хорошая кожа! Отличный день. Прижал руки к груди. Замер. Искоса взглянул на ребят — они приготовились к бегу. Сташевский, Рунич. Ляшенко... Да, Ляшенко, пожалуй, конкурент. Надо вложить всю силу, всю волю в первый рывок. Так. Спокойствие! Хорошо стучит сердце... Двадцать два года — заря жизни... Выдержка. Внимание...
Читать дальше