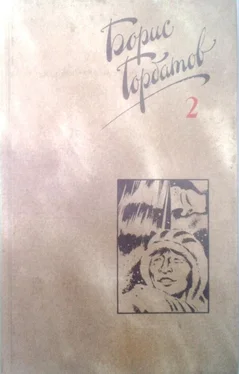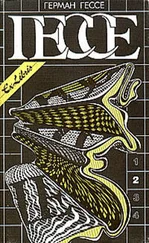Я бы, вероятно, так никогда и не зашел к Алеше.
Но однажды на пороге моей комнаты неожиданно возник Степан Рябинин. Он был в дорожном брезентовом плаще, в пыльных сапогах и с рюкзаком.
С порога он весело закричал мне:
— Эй! Свистать всех наверх! Почему не слышу рапортов? Где вахтенный? Где боцман? Всех распеку.
Мы обнялись и крепко потрясли друг друга.
От Рябинина пахло заводским дымом, бензином, дорогой.
— Я прямо с завода, — объявил он смеясь. — Приехал бить чиновникам морды. Ты чиновник? Держись!
— Ты помолодел, Степан.
— Но не брился. Эй, кисточку, мыла, полотенце, бритву! Нет ли у тебя галстука? Какого-нибудь завалящего, инженерского?
Он и потащил меня к Алексею.
— Что он? Переживает? — спрашивал Степан по дороге. — Не привык быть битым.
— Ох, не привык.
— Привыкнет. Нас всех били.
Алексея мы застали не в одиночестве, он лежал на диване и читал книгу, у стола возле электрического чайника и посуды суетилась девушка, в комнате было чисто, слабо пахло духами, — все вместе походило на тихую семью.
Рябинин легонько толкнул меня в бок:
— Что, Алексей, женился?
Я пожал плечами.
Эту тихую девушку с ясными, голубыми глазами я знал. Она работала машинисткой в окружкоме, и все звали ее Любашей. Это имя удивительно подходило к ней, к ее теплой, полной фигуре, к мягкой, волнистой косе, к добрым, ясным глазам. Я знал, что она робко и тайно любила Алешу, тайно, хотя каждое ее движение выдавало любовь и ласку. Она смущалась всякий раз, когда мы подшучивали над ее любовью. Она смешно отпиралась, клялась и краснела, но в ее глазах, которые не умели лгать, было написано все, что скрывали губы. И мы знали, что по вечерам, крадучись и трепеща, она пробирается к домику Алеши, затаив дыхание, робко стучит в окошко и ждет; она знает, сейчас ей ответит небрежный, грубый и все-таки любимый голос Алеши, в дверях появится он сам и с недовольной улыбкой поздоровается с ней. Он недоволен тем, что она пришла! Она уйдет тотчас же. Она делает испуганное движение к дверям, но он говорит сквозь зубы: «Ну, входи же!» И она входит с боязливой улыбкой, смотрит на него, кладет ему руки на плечи, робко заглядывает в глаза. Ей хочется признаться ему в любви, о которой он все равно знает, но о которой никогда она ему не говорила, а он не спрашивал, ей хочется говорить ему глупые слова, называть его котиком, солнышком, мальчиком, но она знает, что он не любит этих слов, нетерпеливо дергается, брезгливо морщится. И ночью в кровати, когда Алеша уже спит, она тихо гладит его упрямую лохматую голову, шепчет ему все, что хочет, и плачет. Она хочет приникнуть к его широкой, волосатой груди и так уснуть, уснуть сладко, не думая ни о чем. Но уснуть она боится. Можно проспать рассвет, и тогда все увидят, что она выходит из чужого домика, все узнают о ее любви к Алексею, стыдной, запретной любви, не такой, как у всех. И когда за окном начинает сереть, она встает, потихоньку одевается, чтоб не разбудить Алешу, еле слышно целует его и уходит.
Алексей встретил нас хмуро и настороженно. Любаша смутилась. Все чувствовали себя неловко, не знали, о чем говорить, что делать. Даже Рябинин растерялся. Впрочем, он скоро освоился, весело закричал.
— Чем угощают в этом доме?
— Чаем, — ответила, покраснев, Любаша. — Налить?
— А покрепче нет ли чего?
— Я принесу, — торопливо сказал Алеша. — Минутку, ребята.
Скоро появилось вино. Рябинин поднял свой стакан, посмотрел на свет.
— Ну, за встречу, ребята! Помните, мальчики, «Коммуну номер раз»? Констатирую: вы тогда уважали старика Рябинина и даже слушались. Почему теперь дисциплина ослабла? Почему не вижу поднятых стаканов? Ну, дай бог не последнюю.
Мы шумно выпили. Я заметил, что Рябинин сильно изменился. Помолодел — так сказал я ему! Но, вглядевшись в него, я увидел легкий иней на висках и много мелких, чуть заметных морщинок. Правда, он был теперь веселей, шумнее, чем раньше, и мне вдруг показалось, что шумливость эта, нервная, несвойственная положительному, хладнокровному, малоразговорчивому Степану, как раз и выдает его. «Эй, Степан, — думал я, — не ершись. Где-то у тебя глубоко в душе камешек лежит, громыхает. Тебе не скрыть его в шумном, нарочитом веселье».
Невеселая была наша встреча, и вино было скверное, и говорили мы не то, что хотелось.
Больше всех говорил Степан. Он рассказывал о заводе, о своем далеком цехе, о людях. Он рассказывал нам, как его встретили в цехе. Директор предупредил его:
— У тебя обер-мастером будет Гарась, Михайла Трофимыч. Ядовитый старичок.
Читать дальше