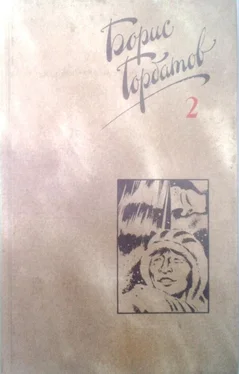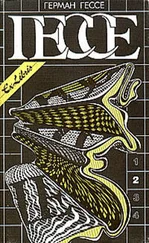Они приехали, эти люди, с семьями и детьми, с тракторами, коровами и музыкальными инструментами, с настольными лампами, патефонами и безопасными бритвами Мосштампа. Они ни с чем не хотели мириться: ни с природой, ни с лишениями; они затеяли победить их. Льды? Они расталкивали их ледоколами. Пурга? Они пробивали косые завесы снега самолетами. Одиночество? Они подняли в небо радиомачты. Лишения? Они построили просторные дома, теплицы, бани, больницы, хлева. Их романтика была романтикой сопротивления и победы. Их жизнь — жизнью творцов и строителей. В этой жизни Карпухину нечего было делать.
Мы выбрались уже на припай. Вдали зачернело море. Бушевавшие целую неделю порывистые северные ветры прибили к острову огромные ледяные поля и спаяли их со старым береговым припаем, — теперь припай раскинулся километра на два, на три. Острые зеленоватые торосы выпирали изо льда тут и там. Чем ближе к морю, тем фантастичнее и неожиданнее были их нагромождения.
Впереди, над кромкой припая, то и дело взлетали дымки выстрелов. Это Семка с Дмитрием Павловичем уже начали промысел. Я скоро заметил их. Они лежали у самой воды, спрятавшись за торосы.
Лед, по которому брели наши собаки, тончал и тончал. Стали попадаться глубокие трещины, словно морщины на белом лице припая. По этим трещинам, как по ризке, проведенной алмазом на стекле, станут отрываться при перемене ветра льдины и уплывать обратно в море. Это ледяные поля... Они здесь, как на якоре в Тихой гавани. Еще неделю назад они вольно неслись по холодным волнам Карского моря. И, может быть, еще неделю назад по этой льдине бродил медведь, хозяин Ледяного моря, — сейчас мирно бредут собаки. Кто знает! Через неделю эти поля снова рванутся в свое беспокойное плавание и унесут на себе в море робкие наши следы, кружевной след лемминга, веточки собачьего шага и неширокую полосу, пропаханную в снегу нартами. И новый постоялец плавучей льдины — медведь — будет озабоченно обнюхивать эти неизвестно откуда взявшиеся следы человека, и охотничья дрожь охватит его так же, как охватывает нас сейчас.
Знакомый пейзаж Студеного моря (древние грехи звали его «Свернувшимся морем») ободрил Карпухина. Он начал покрикивать на собак («Эх вы, кабыздохи, ша-лые-е!» — словно кучер на рысаков), а когда они шарахнулись в сторону, за леммингом, огрел их длинным хореем и обругал:
— У здешних учитесь? По здешним не равняйтесь. То купчихи, а не собаки!
Он становился все воинственнее — знакомые люди, море, запахи пороха, воды, морского зверя будоражили его. Он закричал Семке и Дмитрию Павловичу, что не так они промысел начали, не так залегли, не то делают.
— Ах, чудаки люди! Ну что же вы делаете? Не так! Не так, шалые!
Но его никто не слушал, и даже Семка только досадливо отмахнулся рукой. Да и сам Карпухин был уже не уверен в себе, хотя и форсил и храбрился.
Стрелял он плохо: то ли вообще не умел стрелять, то ли сегодня расстроился. Нерпы было много. Она плескалась в полынье, образованной плавучими льдами. То и дело из воды высовывалась грациозная, блестящая сизо-серебристая спина с черными пятнами.
Чтобы привлечь нерпу ближе к выстрелу, Семка тихонько посвистывал. Нерпа любопытна: свист, шорохи на берегу, стук палки о днище лодки — все привлекает ее. Она торопливо плывет на звук, доверчиво высовывает из воды морду. В голову ее и бьют. Уже качались на воде три-четыре тушки убитых нерп, вокруг них багровыми кругами расплывалась кровь. Жирные туши, как пробки, болтались на поверхности воды и не тонули.
Но Карпухину все не удавалось промыслить нерпу. Он злился. Тоже пробовал свистеть и тут же ворчал:
— Да, посвисти, посвисти! Удивишь ее, как же! Здешняя эта нерпа, ко всему привычная. Образованная. Интеллигентка! Она, поди, граммофон слышала и роялю. Пожалуй, и танцевать умеет, выучилась, на вас глядючи. — Он поворачивал ко мне голову и ехидно хихикал. — Поглядите: ишь, пляшет! Это как называется: фострот или вальц?
Когда спустили на воду ветку [17] Ветка — лодка.
, чтобы подобрать тушки, он тоже ввязался в поездку, чуть не опрокинул лодку, все командовал:
— Левое весло пошло! Табань, черт, правым! Оба в ход! Ах, и диеты, идиеты, такого дела не умеют!
И я все боялся, что Семка огреет его веслом.
Хоть Карпухин ни одной нерпы так и не убил, но разделывать их бросился яростно. Вот это он умел делать, говорить нечего. Нож блистал в его умелой руке, как скальпель в руках хирурга. Прежде всего он отделил печенку и, с наслаждением чавкая, стал есть ее. Усы и борода его окровянились, капли крови замерзли на волосах. Он и мне предложил отведать печенки. Я отказался.
Читать дальше