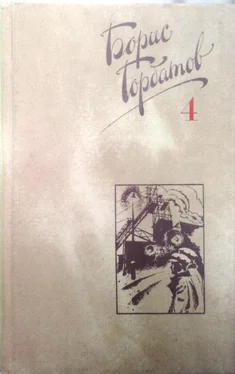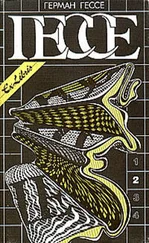— Я ж не о себе забочусь, — обиженно сказал Виктор. — Ну, нехай не я. Пускай Андрей, как парторг, триста тонн вырубит. Мне только чтоб слава за нашей шахтой осталась.
— Слава?.. Слава всякая бывает, — насмешливо подхватил Нечаенко. — Видишь, вон терриконик... Пирамида, а? Монумент! Ишь, как горделиво возвышается над всеми! Можно подумать, что именно в нем вся слава «Крутой Марии». А что он в сущности такое? Свалка пустой породы, не больше. И пользы от него никакой, только пыль по поселку... А уголь, который вырубил ночью Андрей, — неожиданно горячо, даже взволнованно продолжал Нечаенко, — не сложат в пирамиду, нет! Его завтра же в толках сожгут, без остатка. И следа не останется! Зато даст этот уголь тепло и свет людям. И люди добрым словом помянут забойщика, который этот уголь добыл. Да и Сережа в газетах об этом забойщике напишет! — вдруг весело закончил он. — Напишешь, Сергей?
— Напишу... — сказал я.
— Ну, вот и слава...
Говорят, любопытство — добродетель журналиста. Может быть, что-то и тянуло меня к этим славным хлопцам? Странным образом скрестились наши дороги; случилось так, что пять лет назад я встретил этих ребят в час их позора, сейчас видел в дни славы. Может быть, просто хотелось поглядеть, что же станется с ними дальше? Но я уже сам чувствовал, что тут не только любопытство, а журналистика здесь ни при чем. Из любопытства не станешь болеть душою за малознакомого человека. А я уж болел за этих ребят. Нет, это не просто любопытство; тут был кровный интерес современника к своим современникам; в таких-то ребятах, как эти, и зрело будущее родины, хоть сами герои, с головой захваченные делами сегодняшнего дня, может быть, и не думали об этом...
Они были еще в самом начале своего пути, в дороге, в походе, в движении, и заботы у них были дорожные, путевые, и цели им виднелись только самые ближние, зато, достигнув их, они тут же открывали новые цели, и, не отдохнув, устремлялись к ним. И их прямые вожаки — Нечаенки, Светличные — тоже были еще очень молоды и неопытны, они сами находились в пути, они сами росли от привала к привалу, и хотя заглядывали они за горизонт дальше, чем люди, ведомые ими, но и они, разумеется, не могли проникнуть мысленным взором в грядущее.
В те дни мы особенно близко сошлись и сдружились с Николаем Нечаенко. Мы были ровесники, люди одного поколения, схожей судьбы. У нас быстро нашлись общие знакомые, даже общие воспоминания. Оказалось, что мы не раз бывали вместе на съездах, слетах или конференциях. Странно, что мы не встретились и не подружились раньше. Впрочем, вряд ли в толчее заседаний смогли бы мы сдружиться так, как сдружились здесь, в эти горячие дни на «Крутой Марии».
Самая крепкая, надежная дружба завязывается там, где люди находятся в состоянии наивысшего напряжения своих человеческих качеств, — на фронте, на зимовке в Арктике, в далеком плавании, в острой политической борьбе или, как здесь, в дни накаленного трудового подъема. Тут весь человек виден. Ясно, кто враг и кто преданный друг. Именно сейчас Нечаенко и раскрылся передо мной во всей красоте своей души, неугомонный, нетерпеливый, верный в своем отношении к делу и в своем отношении к людям — порой резком, крутом, но всегда прямом и откровенном. Как и Светличный, он был требователен, но он был гибче и мягче прямолинейного Светличного; он умел понимать человеческие слабости и даже прощать их. Он даже любил возиться с людьми проштрафившимися и отсталыми; и если вытягивал их — этим гордился больше всего. Словом, он был настоящий парторг, то есть партийный организатор масс, с врожденным талантом руководителя, и поэтому меня несказанно удивили мечты Нечаенко, которыми он как-то поделился со мной.
У нас шел разговор об учебе, — я знал, что Нечаенко рвется в институт.
— В комвуз, конечно? — понимающе спросил я.
Но он ответил:
— Нет, почему же? Я хотел бы стать инженером.
— Горняком?
— Нет, не совсем... — засмеялся он.
И тут уж я ничего не понял. А он, хитро прищурившись, смотрел на меня.
— Я, видишь ли, хотел бы строить машины... — сказал он. — Потихоньку-то я готовлюсь, скрывать не буду, да вот черчение — слабость моя...
Но тут нас прервал телефонный звонок. Звонил Дед. У Нечаенко с ним были сложные и трудные взаимоотношения; они любили друг друга, а сговориться не могли.
— Хорошо, я сейчас приду, — скучным голосом сказал в трубку Нечаенко и обернулся ко мне. — Ты меня прости, Сережа, пойду к Деду. Он совсем расклеился, дома лежит, — и он торопливо вышел из шахтпарткома.
Читать дальше