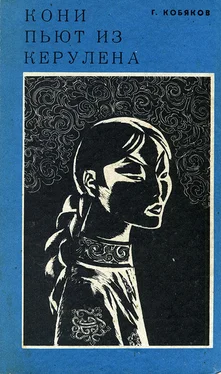— Картинка!
При этом одернул гимнастерку и выпятил грудь, на которой сняла медаль «За отвагу».
Позднее мы размышляли: откуда вот такое на вид совсем слабенькое существо смогло найти в себе силы, чтобы поднять на седло найденного в степи рослого Максима — сам-то он уже не двигался, — а потом много километров брести по глубокому снегу, преодолевая шквальные удары ветра, и добрести до нашего городка? Задумывалась ли эта девушка над тем, что из «чертовой пляски» могла не выйти? Безрассудство молодости, благородный порыв души или присущая юности мечта о подвиге — что двигало ею в тот час?
— Какие бы мотивы ни двигали девушкой, — подвел теоретическую базу под нашими размышлениями политрук батареи на одном из занятий по политической подготовке, — ясно одно: истоком этих, мотивов и самого поступка является дружба наших народов, любовь монгольских людей к советскому солдату. Дружба и любовь— это не просто красивые слова, это прежде всего добрые поступки.
Но размышляли о поступке девушки мы позднее, а сейчас попросту разглядывали ее. И хотя чувствовалось, что девчонку смущает это бесцеремонное разглядыванье, она не уезжала. Внимательно вглядываясь в наши лица, она переводила взгляд с одного на другого. Одинаково одетые, мы, наверное, казались ей все на одно лицо, как и монголы поначалу одинаковыми казались нам. Вдруг догадались: она ищет Максима. А его не было, он лежал в Баин-Тумэни, в армейском госпитале.
Считая, что девушка по-русски ничего не «кумекает», мы заговорили, притом коллективно, самым древним на земле языком — жестами и мимикой. Размахивая руками, показывали на город, стонали и морщились, как больные. Она долго ничего не понимала. И вдруг тревога, написанная на ее лице, сменилась радостной белозубой улыбкой.
— Бусдын хэлэндээр ярьснийг ойлгох (я поняла вас), — засмеялась она и, как бы подтверждая, что действительно поняла, захлопала в ладоши. Это получилось по-детски непосредственно и чуть смешно.
— Ну, молодец, девушка, сообразительная ты, — похвалил сержант Ласточкин. — А за Максима, за спасение его, большое спасибо тебе. Баярлаа, по-вашему.
В тот ласковый тихий вечер в знак признательности мы подарили монгольской девушке… песню. О, петь-то мы умели! Старшина Гончаренко, если почему-либо не ладилась песня в строю, давал нам прикурить… Ну, а тут не для старшины старались. Для славной и милой девчонки, для нашего нового друга. Мы хотели, чтобы она и в словах, и в мелодии услышала не только уважение и признательность, но и то неповторимое, несказанно светлое чувство любви и верности… Тихая и нежная, песня неторопливо рассказывала о девушке с ласковым русским именем Катюша, о ее обещании сберечь любовь, сохранить верность другу, который на дальнем пограничье стережет покой родной страны.
Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила ка берег Катюша.
На высокий берег, на крутой…
Когда мы закончили петь, девчонка тихо, очень тихо сказала:
— Баярлаа. Спасибо.
Голос ее дрогнул, взволнованно зашевелились крылышки носа. Положив маленькую руку на горло, будто придерживая застрявший там комок, она снова повторила:
— Баярлаа. Спасибо!
Настало время прощаться. Мы спросили имя девушки. Улыбнувшись, она с какой-то тревожной радостью ответила:
— Катюша, Катюша…
— Катюша, значит. Ну что ж, до свидания, Катюша.
— Баяртай! — помахала рукой и весенним ветром полетела в сумеречную степь.
В тот вечер, шагая с ужина, мы снова пели «Катюшу». Молодые сильные голоса наши звенели в дрожащем воздухе и улетали в притихшие степные просторы. Песня звучала энергично, обнадеживающе, призывно. Старшина Гончаренко, пружинистый и легкий, парадно шагал рядом со строем. Перед тем, как распустить строй, он вдруг прочувствованно сказал:
— Оцэ гарно спивали, хлопцы!
— Что, что? — удивились мы, зная скупость старшины на всякую похвалу. Не ослышались ли? Нет, оказывается, не ослышались. Вытянувшись в струнку, Гончаренко приподнял голову и голосом, в котором зазвенела торжественная медь, чеканно произнес:
— От лица службы объявляю благодарность за песню!
— Служим Советскому Союзу! — выдохнули мы и еще больше удивились. Мы-то, грешным делом, считали старшину сухарем и бездушным солдафоном. Не раз ведь бывало, когда он приказывал петь, не считаясь ни с нашей усталостью, ни с настроением.
Мало того, он не раз «гонял» всю батарею и по часу и по два в строю только ради того, чтобы выдавить, выжать песню, подчинить всех своей воле. И коса находила на камень. Но вот, прикоснувшись к высокому чувству, выраженному в песне, — и в старшине, видимо, что-то просветлело и отогрелось.
Читать дальше