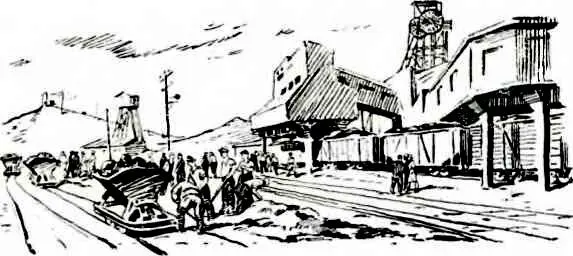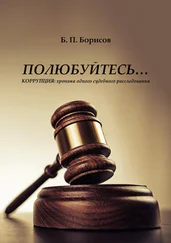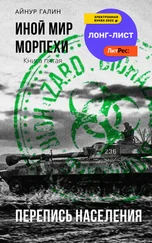Борис Галин
В одном населенном пункте

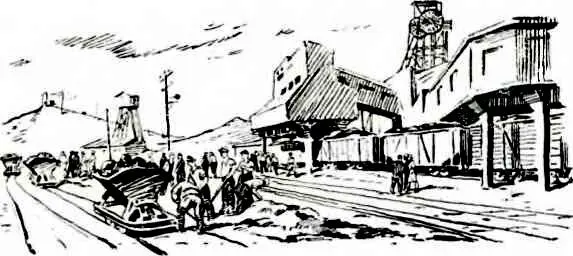
Донбасс — моя третья мобилизация. Собственно говоря, прямого приказа о мобилизации на работу в Донбасс я не получал. Но с тех пор, как я вступил в комсомол, а затем в партию, вся моя сознательная жизнь проходит под знаком комсомольской и партийной работы. Вот почему эту свою новую работу — работу районного пропагандиста — я рассматриваю как мобилизацию.
Весной сорок шестого меня демобилизовали из рядов Красной Армии. Получив проездные документы, я, капитан запаса, поехал в Донбасс, куда меня пригласил мой бывший командир полка Василий Степанович Егоров, — он работал секретарем райкома партии.
С Егоровым меня связывают годы службы в одном полку.
Я служил под его начальством свыше полутора лет, был помощником начальника штаба полка по оперативной части — ПНШ-1.
Подполковник Егоров по профессии инженер. В дни наступления, в сентябре сорок третьего года, наш полк принимал участие в освобождении Донбасса. До войны Егоров работал в этих местах. Когда мы прошли Донбасс и вышли к Днепру, Егорову позвонил командир дивизии — это было в ночь наступления — и сказал, что по предписанию вышестоящих инстанций Егорова отзывают на работу в Донбасс. Командиру дивизии жаль было расстаться с Егоровым. Но приказ есть приказ, и командир дивизии предложил Василию Степановичу сдать полк своему заместителю. Василий Степанович просил отложить исполнение приказа на сутки — ему хотелось участвовать в наступательном бою, в котором его полк был направляющим. Подполковник считался в дивизии «офицером прорыва». И он повел полк в бой и был ранен в первые часы прорыва.
Мы находились на наблюдательном пункте полка, когда вблизи нашего окопа разорвался снаряд и нас обоих засыпало землей.
В санбат нас отвезли в одной машине, в санитарном поезде мы ехали в одном вагоне, и в госпитале наши койки стояли рядом. Третьим в нашей палате лежал тяжело раненный офицер-танкист Иван Петров. Это был молодой человек, почти юноша, с резкими, заострившимися чертами лица. Ко всему безучастный, он лежал, отвернувшись к стене. И только однажды он оживился: это когда ему принесли письмо из его части. Он молча слушал сестру, читавшую письмо. Она, видимо, исказила какую-то фамилию в письме, и он быстро поправил ее:
— Вельховенко, — сказал он и, медленно повернув к нам лицо, добавил: — Под Томаровкой шел справа от меня.
Василий Степанович тяжело переносил свою контузию. Заикаясь и растягивая слова, он говорил, что судьба сыграла с ним злую шутку — и в операции до конца не участвовал, и в Донбасс не поехал.
Город, в котором находился наш госпиталь, был маленьким тыловым городом. Василий Степанович и танкист были прикованы к постели, я же мог передвигаться и даже выходить из госпиталя. Неподалеку от госпиталя находился музей, в который свезли со всей округи множество книг. Музей этот — бывшая домовая церковь одного помещика — находился в ведении Наркомпроса. На время войны он был закрыт. Охранял книги старик — он впустил меня в музей лишь после того, как я получил разрешение из райкома партии.
В музее царил страшный холод. Я одевался как можно теплее — полушубок, ватные штаны, валенки, рукавицы. Старик-сторож открывал тяжелые двери, и я входил в холодное, озаряемое сумеречным светом, низкое сводчатое книгохранилище. Сторож запирал за мною дверь, видимо опасаясь, чтобы я не утащил книги, и я оставался один в этом старинном здании. Книг здесь было очень много. Они лежали на полу, на подоконниках — старые книги в кожаных переплетах. Я любил перебирать тяжелые, с медными застежками, старинные книги, сдувая пыль, перелистывать пожелтевшие страницы и, примостившись под окошком так, чтобы свет падал на книгу, смакуя каждое слово, медленно читал.
Книги были большей частью по военной истории. Возвращаясь в госпиталь, я обычно пересказывал Егорову содержание прочитанного. Когда я однажды сказал ему, что наткнулся на книгу по металлургии и горному искусству, он даже закряхтел от досады: прикованный к госпитальной койке, он не имел возможности ходить в этот музей.
Читать дальше